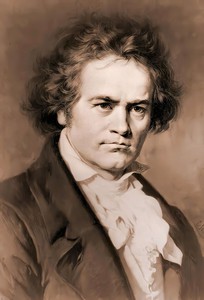Соната №16 G-dur, Op.31 №1
Соната для фортепиано № 16 соль мажор, op. 31 № 1, была написана Бетховеном в 1801—1802 годах, вместе с сонатама № 17 и № 18. Несмотря на то, что она вошла в опус 31, опубликованный в 1803 г., под №1, она была написана после сонаты «Буря» (Op. 31 No. 2).
В сонате три части:
1. Allegro vivace
2. Adagio grazioso
3. Rondo. Allegretto-presto
Мнения об этой сонате в имеющейся литературе различны. Некоторые исследователи считают ее чрезвычайно мало оригинальной.
Любопытна, в частности, отрицательная оценка, данная А. Рубинштейном. По его мнению, «это, вероятно, самая слабая из сонат Бетховена. В ней видна его личность, но нет полета. Второй мотив1 человеческий, но не божественный, а мы привыкли у Бетховена к божественному. Все же первая тема и конец изложения (чередование мажора с минором) рисуют его личность. Adagio grazioso — точно балетное, его трели как бы изображают кружащихся па цыпочках балерин. Это Adagio — жертва моде и совсем недостойно Бетховена. Рондо несколько лучше, в нем есть красивость».
Мнение Рубинштейна характерно как отголосок вкусов музыкантов, несколько односторонне предпочитающих патетически возвышенного Бетховена Но есть и другой Бетховен, черты которого, заметные и раньше, очень ясно выступили в сонате ор. 31 № 1. Это Бетховен, чрезвычайно внимательный к бытовым интонациям, способный подхватить популярную песенку, танец, обороты оперной арии, увлечься юмором бытовых сценок.
Подобные стороны сонаты ор. 31 № 1 получили более верную и беспристрастную оценку в наше время.
Ромен Роллан писал, что данная соната «отличается очень подчеркнутым «мимическим» характером, — у меня есть искушение сказать, что это — сознательное подражание итальянскому театру: в первой части есть юмор, шутки, быстрый диалог, лукавый стиль и шутовская furia какой-нибудь сцены из музыкальной комедии. Что же касается adagio, всякий безошибочно поймет ее «россиниевское» назначение: это серенада, построенная на аккомпанементе гитары, хотя, само собою разумеется, в середине невольно чувствуется тяжелая и мощная лапа молодого медведя. Но некоторыми отсветами она предвозвещает уже лучезарную серенаду из «Цирюльника» (Итальянские черты сонаты ор. 31 № 1 до Р. Роллана отмечали также Ленц и А. Б. Маркс).
«Итальянизмы» сонаты ор. 31 № 1 несомненны, но не следует их переоценивать. Они не были подражательными, а явились лишь средством выработки той «гибкости в суставах», о которой говорит Ромен Роллан (см. выше). Бетховен, живший в период становления немецкой нации, все более отчетливо и последовательно стремился к формированию национального музыкального искусства, тенденции которого заметны и в сонате ор. 31 № 1.
Характеристика этой сонаты, данная Б. В. Асафьевым, справедливо подчеркивает ее самобытные, оригинальные черты: «Ярко темпераментное сочинение, полнозвучное и сочное. Богатый четкий рисунок. Выпуклые, легко запоминаемые и врезающиеся в память ритмы и мотивы. Радостно возбужденный тон, переходящий моментами в веселость и страстную устремленность. Вторая часть — медленное движение, в котором господствует широкая, пышно изукрашенная орнаментами мелодическая линия. Третья часть рондо. с идиллической основной темой, радует слух красивыми изгибами, поворотами и сплетениями мягких и плавных линий, движущихся веселым хороводом».
Подчеркнем еще раз, что шестнадцатая соната — сочинение переходного характера. Но рост силы мысли и мастерства Бетховена в ней чрезвычайно ощутителен. Все части шестнадцатой сонаты своеобразны, а ансамбль их очень целостен. Не только в выработке гибких форм следует видеть заслуги этой сонаты. Первая часть замечательна сочетанием блестяще развитого образного психологизма с объективным характером музыки, обращенной к бытовым интонациям. Во второй и третьей частях привлекает внимание синтез пасторального и салонного, стилевых элементов деревни и города.
Наконец, пронизывающая сонату тонкая, но все же явственно уловимая ирония прекрасно характеризует личность тридцатидвухлетнего Бетховена, уже чуждого светских иллюзий и твердо определившего истинную цену светского общества.
Due to his dissatisfaction with the ‘classical’ style of music, Beethoven pledged to ‘take a new path’ of musical composition and style. The Opus 31 works are the first examples of Beethoven’s new innovative and unconventional ideas, an attempt to make a name for himself in the annals of music history. It is important to take into account that these pieces were written after the famous Heiligenstadt Testament of 1802.
In critical terms, this sonata is light, breezy and has touches of humour and irony amongst its movements. Critics say that the Opus 31 works show now a more pronounced ‘Beethovenian’ sense of style that will become more evident in later, mature works.
The first movement, Allegro vivace, begins in an animated fashion. Almost comical, the main theme is littered with brisk, semiquaver passages, and chords written in a stuttering fashion, suggesting that the hands are unable to play in unison with one another. Episodes suggest a more sensitive or romantic feeling, but overall, the piece is light, elegant and entertaining. The beginning of the piece is reminiscent of the Courante from J. S. Bach’s French Suite No. 5, which is in the same key.
Rather unorthodoxly, the second subject in the exposition is in B major and minor (alternating between major and minor). This is one of the earlier manifestations of Beethoven’s tendency, especially later in his career, to place the second subject of a major-key work in more remote keys, usually the mediant major or minor, for instance, (Symphony no. 7 in A major, op. 92 (movements 1 and 3); Sonata no. 21 in C major, op. 53 («Waldstein») or submediant major (Piano Trio No. 7 in B-flat major, op. 97 («Archduke»); Piano Sonata no. 29 in B-flat major, op. 106 («Hammerklavier»).
With long, drawn out trills and reflective pauses, the Adagio grazioso in C Major is the more sentimental movement. The heavy ornamentation almost suggests a grotesque parody, but the several graceful melodies in the piece saves it from merely being a joke. The movement is full of quick, shimmering right hand passages that should be played as quick as possible, with a fairy-like glitter. Apart from the Hammerklavier sonata’s adagio and the 32nd sonata’s second movement, this is the longest slow movement of Beethoven in the piano sonatas (ca. 11 minutes). According to many great pianists (e.g. Edwin Fischer and András Schiff), this movement is a parody of Italian opera and Beethoven’s contemporaries, who were much more popular than Beethoven at the beginning of the 19th century. Schiff explained this theory in his masterclass of this sonata[1]; he said it’s totally uncharacteristic of Beethoven because it is not economical, it’s incredibly long, everything is too much ornamented, it’s filled with «show-off cadenzas (. ) who are trying to make a cheap effect» and bel canto like elements and rhythms (on them Schiff said «it’s very beautiful, but it’s alien to Beethoven’s nature»). But there are also «very profound moments, because Beethoven cannot really jump out of his own skin».
The Rondo is similar in character to the first movement: light, enthusiastic, and youthful. This rondo is considered by critics to be one of the finest rondos to be written by Beethoven. Here, a single simple theme is varied, ornamented, syncopated, modulated throughout the piece. But Beethoven’s creativity never makes us bore of it. All the ideas are fresh, inviting, and intriguing, a delectable piece. Beethoven eventually pulls the movement into a brief adagio, but when it seems the piece has finished, a presto erupts, bringing this vibrant sonata to an ebullient conclusion.
After completing his Op. 28 Piano Sonata, Beethoven told his friend Krumpholz that he was dissatisfied with what he had written and was setting out to compose in a new way. However, the Op. 31 sonatas don’t seem to indicate any radical changes. In the first of the three sonatas, one gesture really stands out: in the first movement’s recapitulation, where traditional sonata form requires the music to appear in the dominant key (in this case, D major), Beethoven slips instead into the submediant, a vaguely unsettling place, suggesting that the music still has some distance to travel before it reaches its harmonic home. Beethoven would often employ this trick later in life. The opening Allegro vivace begins in a flurry of notes, which gives way to a theme consisting of curt, impatient chords. A longer version of the flurry is followed by the quick chordal theme again. Then a new, impetuous subject bursts in, briefly venturing into the minor mode. The succinct development is devoted entirely to the «flurry» material, and barely before it’s begun, the opening section is recapitulated. Near the end it loses melodic direction and, as mentioned, drifts into the «wrong» key before lurching into an abrupt G major conclusion. The Adagio grazioso is based on a trilling melody that rumbles when it moves to the keyboard’s lower register. The tune flies about capriciously before offering a leaner, plainer version of itself. The initial version returns, seeming more than ever like a self-centered ballerina twirling over a clumsy Ländler rhythm. Throbbing chords dominate the next section and allow the music to descend into a hazy minor-mode region. The opening melody returns focus to the movement and is shortly displaced by a gently pealing, bell-like section. The principal subject comes back in one of its most frivolously ornamented guises yet and surrenders to a section that is little more than trills competing with a hypnotic repetition of chords, before flitting up toward the top of the keyboard and away. Beethoven displayed subtlety in the concluding rondo, a good-natured Allegretto whose first contrasting section alludes to the previous movement’s penchant for trills. By and large, this rondo is really a series of short variations on the primary theme, almost all of them turning the left hand into a perpetual motion machine; the right-hand material, in contrast, is quite easy-going. The theme becomes slow and coy as the coda arrives, but ultimately whirls toward a conclusion that turns out to be a string of muttered little afterthoughts.
(All Music Guide)
- 1. Рубинштейн имеет и виду побочную тему первой части.
Источник
Бетховен соната для фортепиано presto
Как известно, три фортепианные сонаты ор. 2, изданные в 1796 году и посвященные Йозефу Гайдну, не были первым опытом Бетховена в области сонатной фортепианной музыки (до этого ряд сонат был сочинен композитором во время пребывания его в Бонне). Но именно сонатами op. 2 начинается тот период сонатного фортепианного творчества Бетховена, который завоевал широчайшую популярность.
Первая из сонат ор. 2 частично возникла в Бонне (следовательно, до 1792 года), две последующие, отличающиеся более блестящим пианистическим стилем,— уже в Вене. Посвящение сонат Гайдну, бывшему учителю Бетховена, надо думать, указывало на достаточно высокую оценку этих сонат самим автором. Задолго до своего опубликования, сонаты ор. 2 были известны в частных кругах Вены.
Рассматривая ранние произведения Бетховена, иногда говорят об их сравнительной несамостоятельности, о близости к традициям предшественников — и, прежде всего, к традициям Гайдна и Моцарта. Спору нет, черты такой близости налицо. Мы находим их и в целом и в частностях, и в использовании ряда привычных музыкальных идей, и в применении устоявшихся особенностей клавирной фактуры. Однако гораздо важнее и правильнее видеть даже в первых сонатах то глубоко оригинальное и самобытное, что позднее сложилось до конца в могучий творческий облик Бетховена.
Соната Op. 2, No. 1
Уже эта ранняя соната Бетховена высоко ценилась русскими музыкантами. Примечательна, в частности, характеристика ее, данная Антоном Рубинштейном.
«В Allegro,— говорил Рубинштейн,— ни один звук не походит на Гайдна и Моцарта; оно полно страсти и драматизма; у Бетховена нахмуренное лицо. Adagio написано в духе времени, но все же и оно менее слащаво. В третьей части вновь новое веяние, это драматический менуэт. То же и в последней части: в ней нет ни единого звука Гайдна и Моцарта. Первые сонаты Бетховена написаны в исходе XVIII столетия, но все они по своему духу принадлежат всецело XIX-му столетию».
Ромен Роллан очень верно почувствовал оригинальность и образное направление музыки Бетховена в этой сонате.
«С первых же шагов,— отмечает Ромен Роллан,— в сонате ор. 2 № 1, где он [Бетховен] еще пользуется слышанными выражениями и фразами, уже появляется грубая, резкая, отрывистая интонация, которая накладывает свою печать на заимствованные обороты речи. Героический склад мышления проявляется инстинктивно. Источник этого лежит не только в смелости темперамента, но и в ясности сознания, которое избирает, решает и рубит без соглашательства. Рисунок тяжел: в линии нет больше кошачьей гибкости, характерной для Моцарта и его подражателей; она пряма и проведена уверенной рукой; она представляет кратчайший и широко проложенный путь от одной мысли к другой,— большие дороги духа. Целый народ может по ним проходить; вскоре пройдут войска с тяжелыми обозами и с легкими конницами».
Действительно, несмотря на сравнительную скромность фактуры, героическая прямолинейность ясно дает себя знать в первой части сонаты (Allegro, f-moll) с ее неведомыми фортепианному творчеству Гайдна и Моцарта богатством и интенсивностью эмоций.
Не показательны ли уже интонации главной партии? Использование аккордовых тонов:
конечно, в духе традиций эпохи. Подобные гармонические ходы мелодии мы встречаем часто и у мангеймцев, и у Гайдна, и у Моцарта. Как известно, Гайдну они более присущи, чем Моцарту, извилистая, богатая гибкими орнаментами мелодика которого пользуется ходами по тонам аккордов менее охотно. Впрочем, в данном случае очевидна преемственная связь именно с Моцартом — с темой финала его соль-минорной симфонии.
Но тем важнее почувствовать новые образные тенденции Бетховена. Легко улавливается зависимость всякого рода аккордовых тем от естественного звукоряда медных духовых инструментов. Однако, если в середине XVIII века и раньше подобные ходы по тонам аккордов чаще всего связывались с охотничьей музыкой, то в революционную эпоху Бетховена они получили иной выразительный смысл — «воинственно-призывный». Особенно существенно расширение подобных образных интонаций на область всего волевого, решительного, мужественного.
Заимствуя рисунок темы из финала соль-минорной симфонии Моцарта, Бетховен совершенно переосмысляет музыку. У Моцарта — изящная игра, у Бетховена — волевая эмоция, фанфарность.
Но не только это достойно внимания. Примечательно эмоциональное богатство, внутренняя контрастность уже первых четырнадцати тактов, когда развитие фанфарных «стрел» переходит в каданс фортиссимо (т. 7), вдруг разрешающийся робким, тихим вздохом перед ферматой.
А дальше — фанфары в басу и выдержанные органные звучности тт. 11—14. Таким образом, еще эскизно, но уже достаточно отчетливо даны обычные эмоциональные контрасты бетховенских образов: волевой порыв, минутная робость, сосредоточенное раздумье. Мелодические, гармонические, ритмические, тембровые средства служат единой цели показа этих внутренних контрастов, отражающих сложность, противоречивость психического процесса.
Заметим попутно, что «оркестральность» мышления постоянно чувствуется в фортепианной фактуре Бетховена; тут не только общие традиции, но и самобытное, очень острое ощущение экспрессии тембров, которую Бетховену превосходно удается передавать контрастами, сопоставлениями и слияниями фортепианных регистров.
Дальнейший переход к побочной партии и сама она — свидетельство чрезвычайной целеустремленности мышления Бетховена. Вот нисходящие ходы и синкопы пятнадцатого и последующих тактов:
Откуда они? Это, как будто, развитие «вздоха» из т. 8 (перед ферматой). Но пассивной интонации вздоха Бетховен тут же противопоставляет динамизм синкопы. Начало побочной партии:
еще более уясняет замысел. Чеканные, восходящие, фанфарные фигуры главной партии теперь стали мягкими, нисходящими, певучими. Но, во-первых, именно это противопоставление роднит по принципу контраста побочную партию с главной. А во-вторых, Бетховен показательно избегает голой, механической антитезы, избегает смены движения покоем. Нет, движение и развитие продолжаются. Острота и напряженность сменились в мелодии гибкостью и уступчивостью. Но зато появился оживляющий ритмический фон восьмых, появились столь любимые Бетховеном вообще темпераментные акценты (т. 3 примера 3-го). А далее вступают новые интонации — как бы торопливых междометий:
Вслед за регистровым расширением стремительно развивается заключение экспозиции. Тут синкопы связующей партии (прим. 2) стали упрямо волевыми, фанфарными (тт. 33—39), а «междометия» (прим. 4) сменились утверждениями:
В конце экспозиции — эмоционально-динамичное столкновение тоники с доминантой (т. 47).
Быстро промелькнула экспозиция, а между тем, в ней многосторонне дан лаконичный портрет. Волевой порыв, робость и раздумье, нарастающая тревога и решительные, мужественные выводы — все это реалистически рисует образ героя совокупными средствами интонаций и музыкальной логики.
Разработка, начавшись главной партией, особенно широко использует материал побочной партии и синкопы, впервые появившиеся в связующей. Но из старых элементов возникают новые образные качества. Нисходящие фразы побочной партии (см. пример 3) теперь, благодаря упорным повторениям в правой и левой руках, получают характер тревожной, неотступной навязчивой идеи.
Беспокойство усиливается с момента вступления синкоп в басу и перекликающихся с ними восклицаний правой руки. Здесь перебивка ритмических акцентов настолько характерна и для позднейшего ритмического склада музыки Бетховена, часто полной неожиданных и резких контрастов, что мы приведем в виде образца небольшой отрывок:
Последующий период (с т. 81) — постепенное успокоение после бурного порыва, когда напряженность исчезла, но эмоция еще не улеглась. И с какой психологической тонкостью Бетховен вводит тут, по-новому, интонации вздоха из т. 8! Этот штрих подчеркивает возврат чего-то жалобного, слабого. Отголоски смятения чувствуются и в подходе к репризе — с его нисходящими одновременными секундами и терциями баса, с триольками шестнадцатых главной партии в правой руке.
Некоторые изменения репризы (по сравнению с экспозицией) очень характерны. Так, изложение главной партии ритмически укреплено частичным переносом аккордов баса от слабых времен на сильные. А в конце части с его секвенционно-модуляционным охватом си-бемоль-минора и ля-бемоль-мажора, с его чрезвычайно энергичным кадансом и синкопическими акцентами — особенно убедительно дан окончательный вывод: все испытания лишь укрепляют волю и решимость.
Итак, уже в первой части первой сонаты Бетховена мы видим огромное реалистическое умение композитора находить и выковывать интонации, способные четко характеризовать образ. Не менее глубока логика Бетховена. Ее неотъемлемые черты — показ противоречивости эмоций путем контрастного (иногда до противоположности) развития элементов, путем их слияний, разъединений, переходов, путем сосредоточения всех эмоциональных тенденций и оттенков вокруг единого образного и композиционного стержня.
Вторая часть сонаты (Adagio, F-dur), как известно, являлась первоначально частью юношеского квартета Бетховена, написанного в Бонне, в 1785 году. По замыслу композитора, «это была жалоба, и Вегелер, с его согласия, сделал из нее песню, напечатанную под заглавием «Жалоба» («Die Klage»)» .
Справедливы слова А. Рубинштейна (см. выше), отметившего в этом Adagio черты стиля того времени. До глубины более поздних адажио Бетховена еще далеко. Эмоция (в частности, «вздохи» ре-минорного фрагмента — с т. 17) еще сохраняет черты галантной сдержанности. Но шаг (и немалый!) к новому уже сделан, новое просвечивает сквозь старое.
«В adagio первой бетховенской сонаты (ор. 2 № 1),— пишет Ромен Роллан,— прелесть выражения отчасти заимствована, но чувствительность более проста, менее нарядна, ближе к природе. различные элементы противопоставляются четко, по контрастам, а не переходят один в другой постепенными изменениями красок; линия . проведена без ретуши и заботится не столько о том, чтобы понравиться, сколько о более точной передаче эмоции. А эмоция эта никогда не бывает игрой».
Показательна тут, в частности, роль орнамента. Ведь всякий орнамент представляет собой детализацию мелоса, но образная сущность этой детализации может быть различной. В искусстве галантного стиля орнаментальная детализация отражала изысканность, порой витиеватость придворной и салонной речи. Бетховен стал ломать подобные завитушки, он создал прямодушный мелос с крупными, обобщенными контурами, что полностью соответствовало широте, размаху и силе выражаемого этим мелосом комплекса идей и чувств. Нередко в мелосе Бетховена (например, в уже затронутых нами выше мелодиях с ходами по тонам аккордов) господствует и нечто очень суровое, спартанское. (Позднее возник новый тип романтического орнамента (проявившегося, как увидим, и в ряде поздних сонат Бетховена). В этом орнаменте крупные очертания сочетаются с мелкими штрихами, отражающими уже не галантную светскость, но гибкость, тонкость душевных переживаний.)
Адажио первой сонаты стоит в данном плане на перепутье. И, все же, бетховенское в нем, пожалуй, заметнее старого. Четкость очертаний, опорные узлы всегда столь чеканного у раннего и среднего Бетховена ритма уводят от изящно-текучей орнаментики Моцарта. По сравнению же с Гайдном бросается в глаза протяженность мелодического дыхания, тяготеющего к певучести, к насыщенности звука. Центр тяжести творчества Бетховена всегда лежал в области инструментальной музыки, и именно насыщение инструментализма певучестью, вокальностью явилось одной из крупнейших заслуг композитора. Это полностью дало себя знать и в его фортепианной музыке, а равно и в авторском исполнительском стиле, отмеченном господством legato. Современники характеризуют исполнение Бетховена, как пианиста, «словом legato, этим оно противополагалось игре Моцарта, тонкой, рубленой и острой, как игра всех пианистов того времени». По свидетельству К. Черни, «в игре Бетховена особенно удивительным было legato, причем он обращался с фортепиано, как с органом».
Третья часть сонаты (Menuetto, Allegretto, f-moll), по видимости, по типу не выходит из традиций живого, энергичного менуэта, созданного еще мангеймцами, Гайдном и Моцартом. Даже такая колоритная деталь, как пассаж параллельных кварт (в секстаккордах) из средней части трио менуэта имеет характерный прообраз в коде первой части клавирной сонаты Гайдна Es-dur (op. 66, соч. в 1789—90 годах), вообще, кстати сказать, богатой смелыми прозрениями в будущее.
Но, все-таки, и в этом менуэте (который Рубинштейн назвал драматическим) чувствуется бетховенская жилка, выражающаяся, хотя бы прямолинейностью и четкостью ритмических граней. Движение восьмых в трио несколько напоминает столь характерные фигуры из скерцо пятой симфонии; это один из ранних примеров бетховенской «поступательной» трехдольности. Нельзя не заметить и самого переосмысления жанра менуэта, который здесь движется в сторону скерцо более поздних сонат.
Финал первой сонаты (Prestissimo, f-moll) полон смелых порывов бетховенской мысли.
Недаром, В. Ленц сравнивал его с «потоком лавы» и охарактеризовал как пьесу столь вольную, столь драматичную, что в ее время не было ничего подобного для сравнения.
В финале немало волнующих предвестников истинно бетховенского динамизма. Примечателен, например, ритмический фон триолей восьмых, проведенный с большой последовательностью и крупными фазами через экспозицию, разработку и репризу. Этот бурлящий ритмический фон уже предвещает ритмику финалов «лунной» и «аппассионаты». Притом, данный фон, в силу постоянного тематического характера бетховенских фигураций, не раз становится из фона «передним планом» и обратно (см., например, тематическую активизацию фона в т. 22 и последующих).
Характерна ритмика вступительных тактов финала:
Перед нами типично бетховенское, крайне рельефное распределение пауз, ритмических и динамических акцентов. Найдены основы столь любимого впоследствии Бетховеном образа, когда интонации резкие и до предела решительные, подобные властным, отрывистым повелениям, чеканятся на звуковой основе тревожного гула. Стихия событий и воля человека — этот образ был естественно порожден всеми реальными импульсами той эпохи. Если он даже переносился в сферу личного сознания, то и там сохранял общественно этический смысл борьбы и подвига.
В побочной партии ритмические перебои триолей правой руки и дуолей левой создают впечатление ожидания. Дав в начале финала особую интенсивность ударных акцентов, Бетховен глубоко логично противопоставляет им особую напевность заключительной темы. В этой мелодии явственно чувствуются славянские интонации:
В самом этом факте, вообще говоря, нет ничего удивительного, поскольку славянский фольклор играл в музыкальном фонде венских интонаций серьезную роль — им пользовались Гайдн и Моцарт. Но особая напевность, «русское» прямодушие приведенной темы не могут не поражать.
Понятна оценка А. Рубинштейна, отметившего, что в финале данной сонаты «нельзя достаточно надивиться новизне и драматизму второй темы» (он имел в виду тему примера 8).
В конце экспозиции повторения начальных ударов и пауз (в до-миноре) как бы подчеркивают внутреннюю контрастность образа (порыв воли и глубина чувства), который вместе с тем монолитен бурным «вечным движением» триолей.
Средняя часть финала словно ищет спокойствия, безмятежности. Но найденный контраст с экспозицией, все же, несколько внешен, так как тема средней части не лишена пережитков галантного стиля. Лишь когда сквозь эту тему начинают прорастать элементы разработки, когда возвращается бег триолей, а заключительная ритмическая фигурка «галантной» темы преображается в фанфарный призыв:
впечатление механического контраста исчезает. Продолжительный органный пункт доминанты (ведь именно Бетховен придал органным пунктам необыкновенную монументальность и, вместе, напряженность) ведет к репризе.
Вновь буря, вновь борьба, вновь порывы воли и глубокого чувства, приводящие к торжеству темпераментного, обогащенного страстью волевого начала.
Первая фортепианная соната Бетховена — выдающийся документ становления его творческой личности. Отдельные черты неустойчивости, колебаний, даней прошлому только оттеняют стремительный напор новых идей и образов.
Это идеи и образы человека революционной эпохи, утверждающего свою передовую этику единства ума и сердца, стремящегося подчинить все силы души мужественным задачам, благородным целям.
Очевидно в первой сонате и зерно программности. Не просто чередование и сопоставление состояний, но развитие идеи и образа от начала к концу. Тенденции к такого рода программности, конечно, имелись уже у Гайдна и Моцарта. Но только Бетховен осознает всю их необходимость,— не говоря уже о совсем ином качестве и размахе самих бетховенских идей и образов.
Путь программного насыщения фортепианной музыки был чрезвычайно труден и сложен даже для такого гения, как Бетховен. В дальнейшем мы увидим различные повороты этого пути, отступления и наступления композитора.
Все нотные цитаты даны по изданию: Бетховен. Сонаты для фортепиано. М., Музгиз, 1946. (редакция Ф. Лямонда), в двух томах. Нумерация тактов дается также по этому изданию.
Запись в mp3:
Артур Шнабель
Записано 23/24.IV.1934
Источник