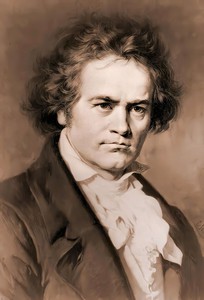Фортепианные сонаты Бетховена
Бетховен никогда не мыслил свои 32 сонаты для фортепиано как единый цикл. Однако в нашем восприятии их внутренняя целостность неоспорима. Играя и слушая сонаты, мы проходим вместе с мастером долгий путь от юношеских попыток “штурмовать небеса” (выражение самого Бетховена) до мистического слияния с Богом и Космосом в заключительной части последней сонаты.
Даже для Гайдна и Моцарта жанр фортепианной сонаты не значил столь много и не превращался ни в творческую лабораторию, ни в своеобразный дневник сокровенных впечатлений и переживаний. Уникальность бетховенских сонат объясняется отчасти и тем, что, стремясь уравнять этот прежде сугубо камерный жанр с симфонией, концертом и даже музыкальной драмой, композитор почти никогда не исполнял их в открытых концертах. Фортепианные сонаты оставались для него жанром глубоко личным, обращенным не к абстрактному человечеству, а к воображаемому кругу друзей и единомышленников. Впрочем, каждый из нас вправе войти в этот круг, привнеся в восприятие бетховенских сонат что-то новое и неповторимое.
32 сонаты охватывают почти весь творческий путь мастера. Над тремя первыми сонатами (opus 2), посвященными Йозефу Гайдну, он начал работать в 1793 году, вскоре после переезда из Бонна в Вену, а две последние завершил в 1822. И если в сонатах opus 2 использованы некоторые темы из совсем ранних сочинений (трех квартетов 1785 года), то поздние имеют точки соприкосновения с Торжественной мессой (1823), которую Бетховен считал своим величайшим творением.
Первая группа сонат (№№ 1-11), созданная между 1793 и 1800 годами, чрезвычайно разнородна. Лидируют здесь “большие сонаты” (так обозначал их сам композитор), по размерам не уступающие симфониям, а по трудности превосходящие едва ли не всё, написанное тогда для фортепиано. Таковы четырехчастные циклы opus 2 (№№ 1-3), opus 7 (№ 4), opus 10 № 3 (№7), opus 22 (№11). Бетховен, завоевавший в 1790-х годах лавры лучшего пианиста Вены, заявлял о себе как о единственно достойном наследнике умершего Моцарта и стареющего Гайдна. Отсюда – дерзновенно-полемический и в то же время жизнеутверждающий дух большинства ранних сонат, мужественная виртуозность которых явно выходила за рамки возможностей тогдашних венских фортепиано с их ясным, но не сильным звуком. Впрочем, в ранних сонатах Бетховена изумляет также глубина и проникновенность медленных частей. “Уже на 28-м году жизни я был вынужден стать философом”, — сетовал позднее Бетховен, вспоминая, как начиналась его глухота, поначалу незаметная для окружающих, но окрашивавщая в трагические тона мировосприятие художника. Авторское название единственной программной сонаты этих лет (“Патетической”, № 8), говорит само за себя.
В то же время Бетховен создавал изящные миниатюры (две легкие сонаты opus 49, №№ 19 и 20), рассчитанные на девичье или дамское исполнение. Родственны им, хотя далеко не так просты, и прелестная соната № 6 (opus 10 № 2), и излучающие весеннюю свежесть сонаты №№ 9 и 10 (opus 14). В дальнейшем эта линия продолжалась в сонатах № 24 (орus 78) и № 25 (opus 79), написанных в 1809 году.
После воинствующе образцовой сонаты № 11 Бетховен заявил: “Я недоволен своими прежними работами, хочу встать на новый путь”. В сонатах 1801-1802 годов (№№ 12-18) это намерение было блистательно реализовано. Идею сонаты-симфонии сменила идея сонаты-фантазии. Две сонаты opus 27 (№№ 13 и 14) прямо обозначены “quasi una fantasia”. Однако это обозначение можно было бы предпослать и другим сонатам данного периода. Бетховен словно пытается доказать, что соната – это скорее оригинальная концепция, нежели застывшая форма, и вполне возможен цикл, открывающийся вариациями и включающий вместо традиционной медленной части строгий “Траурный марш на смерть героя” (№ 12) — или, наоборот, цикл сонаты № 14, в начале которого звучит пронзительно-исповедальное Adagio, вызвавшее у поэта-романтика Людвига Рельштаба образ ночного озера, осиянного лунным светом (отсюда – неавторское название “Лунная соната”). Совершенно лишенная драматизма соната № 13 ничуть не менее экспериментальна: это дивертисмент почти калейдоскопически меняющихся образов. Зато соната № 17 с ее трагическими монологами, диалогами и говорящими без слов речитативами близка к опере или драме. Если верить свидетельству Антона Шиндлера, Бетховен связывал содержание этой сонаты (равно как и “Аппассионаты”) с “Бурей” Шекспира, однако отказывался давать какие-либо пояснения.
Даже более традиционные сонаты этого периода необычны. Так, четырехчастная соната № 15 уже не претендует на родство с симфонией и выдержана скорее в нежных акварельных тонах (не случайно за ней закрепилось название “Пасторальная”). Бетховен очень ценил эту сонату и, по свидетельству его ученика Фердинанда Риса, особенно охотно играл сдержанно-меланхолическое Andante.
Другая четырехчастная соната, № 18, имеет уникальный цикл, в котором нет медленной части, но есть и скерцо, и менуэт. Подобное решение Бетховен повторил позднее в своей Восьмой симфонии (1813).
Кульминационным периодом творчества Бетховена считаются 1802-1812 годы, и немногочисленные сонаты этих лет также принадлежат к вершинным достижениям мастера. Такова, например, создававшаяся в 1803-1804 годах, параллельно с Героической симфонией, соната № 21 (opus 53), которую иногда называют “Авророй” (по имени богини утренней зари). Любопытно, что первоначально между первой частью и финалом помещалось прекрасное, но чрезвычайно протяженное Andante, которое Бетховен по зрелому размышлению издал в качестве отдельной пьесы (Andante favori — то есть “Любимое Andante”, WoO 57). Композитор заменил его кратким сумрачным интермеццо, соединяющим яркие “дневные” образы первой части с постепенно высветляющимися красками финала.
Полная противоположность этой лучезарной сонате – написанная в 1804-1805 годах соната № 23 (opus 57), получившая от издателей название “Аппассионата”. Это сочинение огромной трагической силы, в котором важную роль играет использованный затем в Пятой симфонии стучащий “мотив судьбы”.
Соната № 26 (opus 81-a), созданная в 1809 году – единственная из 32, имеющая подробную авторскую программу. Три ее части озаглавлены “Прощание – Разлука – Возвращение” и выглядят как автобиографический роман, повествующий о расставании, тоске и новом свидании влюбленных. Однако, согласно авторской ремарке, соната была написана “на отъезд его императорского высочества эрцгерцога Рудольфа” — ученика и мецената Бетховена, который 4 мая 1809 года был вынужден вместе с императорской семьей спешно эвакуироваться из Вены: город был обречен на осаду, обстрел и оккупацию войсками Наполеона. Помимо эрцгерцога, из Вены тогда уехали почти все близкие друзья и подруги Бетховена. Возможно, среди них была и истинная героиня этого романа в звуках.
Почти романтический характер носит и написанная в 1814 году двухчастная соната opus 90 (№ 27), посвященная графу Морицу Лихновскому, который имел смелость полюбить оперную певицу и вступить с нею в неравный брак. Согласно Шиндлеру, Бетховен определял характер смятенной первой части как “борьбу между сердцем и рассудком”, а ласковую, почти шубертовскую музыку второй сравнивал с “беседой влюбленных”.
Пять последних сонат (№№ 28-32) относятся к позднему периоду творчества Бетховена, отмеченному загадочностью содержания, необычностью форм и предельной сложностью музыкального языка. Эти очень разные сонаты объединяет еще и то, что почти все они, кроме № 28 (opus 101), написанной в 1816 году, сочинялись в расчете на виртуозные и выразительные возможности фортепиано нового типа – шестиоктавного концертного рояля английской фирмы “Бродвуд”, полученного Бетховеном в подарок от этой фирмы в 1818 году. Богатый звуковой потенциал этого инструмента наиболее полно раскрылся в грандиозной сонате opus 106 (№ 29), которую Ханс фон Бюлов сравнивал с Героической симфонией. Почему-то именно за ней закрепилось название Hammerklavier (“Соната для молоточкового фортепиано”), хотя это обозначение стоит на титульных листах всех поздних сонат.
В большинстве из них обретает новое дыхание идея сонаты-фантазии со свободно устроенным циклом и прихотливым чередованием тем. Это вызывает ассоциации с музыкой романтиков (то и дело слышится Шуман, Шопен, Вагнер, Брамс, и даже Прокофьев и Скрябин). Но Бетховен остается верен себе: его формы всегда безупречно выстроены, а концепции отражают свойственное ему позитивное мировосприятие. Распространившиеся в 1820-х годы романтические идеи разочарованности, неприкаянности и разлада с окружающим миром остались ему чужды, хотя их отзвуки можно услышать в музыке скорбного Adagio из Сонаты № 29 и страдальческого Arioso dolente из Сонаты № 31. И все же, невзирая на пережитые трагедии и катастрофы, идеалы добра и света остаются для Бетховена незыблемыми, а разум и воля помогают духу восторжествовать над страданиями и земной суетой. “Иисус и Сократ служили мне образцами”, — писал Бетховен в 1820 году. “Герой” поздних сонат – уже не победоносный воитель, а скорее творец и философ, оружие которого – всепроникающая интуиция и всеобъемлющая мысль. Недаром две из сонат (№№ 29 и 31) завершаются фугами, демонстрирующими мощь созидающего интеллекта, а другие две (№№ 30 и 32) – созерцательными вариациями, представляющими собой как бы модель мироздания в миниатюре.
Великая пианистка Мария Вениаминовна Юдина называла 32 сонаты Бетховена “Новым заветом” фортепианной музыки (“Ветхим заветом” был для нее “Хорошо темперированный клавир” Баха). Действительно, они смотрят далеко в будущее, вовсе не отрицая породивший их XVIII век. И потому каждое новое исполнение этого гигантского цикла становится событием современной культуры.
(Лариса Кириллина. Текст буклета к циклу концертов Т.А.Алиханова (Московская консерватория, 2004))
Источник
Бетховен юношеские сонаты для фортепиано
Фортепианные сонаты Бетховена с давних пор стали драгоценным достоянием человечества. Их знают, играют и любят во всех странах мира.
Замечательны, при этом, масштабы музыкального бытования бетховенских сонат. Многие из них прочно вошли в педагогический репертуар, стали неотъемлемой его частью. И, однако, это обстоятельство нисколько не приковало фортепианные сонаты Бетховена к сфере учебного музицирования: они остаются желанными номерами концертных программ, а овладение всем циклом бетховенского сонатного фортепианного творчества — заветная мечта каждого серьезного пианиста.
Причины широчайшей популярности фортепианных сонат Бетховена, простирающейся от классов музыкальных школ до эстрад филармоний, заключены, конечно, не только в самом факте принадлежности их гениальному композитору, одному из величайших музыкантов всех времен и народов.
Причины эти также в том, что фортепианные сонаты относятся, в подавляющем большинстве, к числу лучших сочинений Бетховена и, в своей совокупности, глубоко, ярко, разносторонне отражают его творческий путь. Это не значит, конечно, что круг художественных идей фортепианных сонат исчерпывает все основные тенденции бетховенской музыки. Самый жанр камерного фортепианного творчества побуждал композитора обращаться к иным категориям образов, чем, скажем, в симфониях, увертюрах, концертах.
В симфониях Бетховена меньше непосредственной лирики; она яснее дает себя знать как раз в фортепианных сонатах. Цикл из тридцати двух сонат, охватывающий период от начала девяностых годов XVIII столетия до 1822 года (дата окончания последней сонаты), служит как бы летописью духовной жизни Бетховена; в этой летописи события запечатлены порой подробно и последовательно, порой со значительными пробелами.
Было бы, однако, большой ошибкой рассматривать фортепианные сонаты Бетховена только как своего рода интимный дневник. Нет, Бетховен везде и всегда оставался художником-гражданином, глубоким мыслителем, настойчиво и неуклонно стремившимся к высшим философским обобщениям этики и эстетики. Как социальные события, так и факты личной жизни служили Бетховену материалом таких обобщений. Поэтому в тех же фортепианных сонатах масштабы образов не раз расширяются: замкнутое становится грандиозно объемным, личное вырастает до социального, выражая трепетом лирических эмоций отголоски общественных бурь. И эти качества ряда бетховенских фортепианных сонат, позволяющие им приблизиться к бетховенскому симфонизму, служат добавочным мерилом их исключительной ценности.
Нельзя, наконец, не упомянуть и о выдающейся роли фортепианных сонат в становлении и развитии творчества Бетховена вообще.
Когда Бетховен стремился к осуществлению особенно величавых замыслов, когда могучие выразительные возможности оркестра оказывались ему особенно необходимыми — он бывал склонен характеризовать фортепиано как «недостаточный инструмент». Тем не менее, горячая любовь к фортепиано прошла через всю жизнь композитора. Великолепный дар пианиста и импровизатора делал для Бетховена всякое общение с фортепиано особенно заманчивым и увлекательным.
Фортепиано было действительно лучшим другом Бетховена, как композитора. Оно не только давало радость сейчас же услышать сложившееся в мысли, но и возбуждало творчество, помогало готовиться к осуществлению замыслов, выходящих за пределы фортепиано, как такового. В этом смысле, и образы, и формы и вся многосторонняя логика мышления фортепианных сонат оказывались питательным лоном бетховенского творчества вообще
Фортепианные сонаты следует считать одной из важнейших областей музыкального наследия Бетховена. Нам, русским, эти сонаты особенно дороги. Уже более двухсот лет назад творчество Бетховена в России получило самую сердечную и глубокую оценку. Спора нет, имя Бетховена еще при жизни композитора сделалось знаменитым в Германии, Франции, Англии и других странах Западной Европы. Но только революционные идеи передовых общественных кругов России, связанные с именами Радищева, декабристов, Герцена, Белинского,— позволили русским людям особенно верно понять в Бетховене самое лучшее, самое прогрессивное.
В числе горячих почитателей Бетховена можно назвать М. И. Глинку, А. С. Даргомыжского, В. Г. Белинского, А. И. Герцена, А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, Д. В. Веневитинова, Н. П. Огарева, Н. В. Станкевича, М. А. Бакунина и многих других.
Убежденными пропагандистами творчества Бетховена были В. Ф. Одоевский и Н. А. Мельгунов.
Позднее, в пятидесятые и шестидесятые годы, за истинное понимание творчества Бетховена много и плодотворно боролись А. Н. Серов и В. В. Стасов.
«Любить музыку,— писал в 1851 году Серов,— и не иметь полной идеи о созданиях Бетховена, по нашему мнению, серьезное несчастие. Целый новый мир творчества открывает слушателю каждая из симфоний Бетховена, каждая из его увертюр».
Композиторы «Могучей кучки» (М. А. Балакирев, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков), а также А. Г. Рубинштейн, П. И. Чайковский, С. И. Танеев, А. К. Глазунов, А. К. Лядов чрезвычайно ценили музыку Бетховена.
В творчестве русских писателей и поэтов (И. С. Тургенева, И. И. Панаева, А. Ф. Писемского, Л. Н. Толстого, А. М. Жемчужникова, А. К. Толстого, Я. П. Полонского и многих других) с большой силой отразилось внимание русского общества к гениальному композитору-симфонисту.
Проницательность оценки творчества Бетховена русскими музыкантами заключалась в том, что эта оценка схватывала самое существенное — идейно-социальную прогрессивность, огромную содержательность и мощь творческой мысли Бетховена.
Уже в стихотворении Д. В. Веневитинова «К любителю музыки» (1826—1827) выступило чуткое понимание передовых бетховенских идей человеческого братства.
Много позднее, в 60—70-х годах, соратник Герцена — Н. П. Огарев связал образы героической симфонии Бетховена со священной памятью декабристов, погибших «за дело вольное народа и страны».
Сравнивая Бетховена с Моцартом, В. В. Стасов писал М. А. Балакиреву 12 августа 1861 года: «У Моцарта вовсе не было способности воплощать массы рода человечества. Это только Бетховену свойственно за них думать и чувствовать. Моцарт отвечал только за отдельные личности. Истории и человечества он не понимал, да, кажется, и не думал о них. Бетховен же — только и думал об истории и всем человечестве, как одной огромной массе. Это — Шекспир масс. 1-я симфония, 9-я, 6-я, 5-я — это все разные массы рода человеческого, в разные минуты их жизни или нужды, просьб».
А. Н. Серов, характеризуя Бетховена как «ярого демократа в душе», писал: «Веяние свободы, воспетой Бетховеном в «Героической симфонии» со всею достодолжною чистотою, строгостью, даже суровостью героической мысли,— бесконечно выше солдатчины первого консула и всех французских краснобайств и преувеличений». По словам Серова, Бетховен в девятой симфонии «искал идеи, что истинная радость там только и веет, где все люди братья».
На связь музыки Бетховена с революцией указывал и А. Г. Рубинштейн. «Не верю. — писал он по поводу финала девятой симфонии,— что эта последняя часть есть «ода к радости», считаю ее одой к свободе».
Революционные идеи, таящиеся в произведениях Бетховена, были ясны даже его порицателю А. Д. Улыбышеву, хотя отнюдь не вызывали симпатии критика.
И лишь формалистические тенденции, частично присущие Г. А. Ларошу, позволили ему назвать мысли о «республиканском образе мыслей» Бетховена «нелепой выдумкой».
Революционные тенденции творчества Бетховена делали его чрезвычайно близким и дорогим всем передовым русским людям. На пороге Великой Октябрьской социалистической революции, в марте 1917 года, Максим Горький писал Ромену Роллану о необходимости создать биографию Бетховена для молодежи и обосновывал эту необходимость словами: «Наша цель — внушить молодежи любовь и веру в жизнь. Мы хотим научить людей героизму. Нужно, чтобы человек понял, что он творец и господин мира, что на нем лежит ответственность за все несчастья на земле и ему же принадлежит слава за все доброе, что есть в жизни».
Русские ценители Бетховена особенно подчеркивали необыкновенную содержательность его музыки, огромный шаг, сделанный Бетховеном вперед на пути насыщения музыкальных образов идеями и чувствами.
«Бетховен,— писал Серов,— был гений музыкальный, что не мешало ему быть поэтом-мыслителем. Бетховен первый перестал в симфонической музыке «играть звуками» для одной этой игры. перестал смотреть на симфонию как на случай писать «музыку для музыки», а принимался за симфонию только тогда, когда лиризм, переполнявший его, требовал высказаться в формах; высшей инструментальной музыки, требовал полных сил искусства, содействия всех его органов».
Кюи писал, что «до Бетховена предки наши не искали в музыке нового способа для выражения наших страстей и чувств, а довольствовались только приятным для уха сочетанием звуков».
А. Рубинштейн утверждал, что Бетховен в музыку «внес душевный звук. У прежних богов. была красота, даже сердечность, была эстетика, но этика является только у Бетховена».
При всей крайности подобных формулировок, они были закономерны в борьбе с умалителями Бетховена (подобными Улыбышеву или Ларошу).
Одной из важнейших черт содержательности музыки Бетховена русские музыканты считали присущую этой музыке программность, ее стремление передавать сюжетно отчетливые образы. Уже в статье «Современное состояние просвещения», опубликованной в журнале «Телескоп» (1831, № 1), мы находим следующую характеристику программного содержания бетховенских произведений: «Музыка — сие почти не вещественное искусство — предъявляет притязания на пластическую изобразительность, на колорит живописный. Она хочет, не только высказывать, но и показывать. Гений Бетховен первый понял сию новую задачу века: его симфонии суть роскошные картины звуков, волнующихся и преломляющихся со всею прелестью живописи».
В. В. Стасов говорит в одном из писем к М. А. Балакиреву о программности героической симфонии Бетховена, а Балакирев в одном из писем к Стасову отмечает программность увертюры Бетховена ор. 124. А. П. Бородин видел в программности пасторальной симфонии Бетховена «громадный шаг в истории развития свободной симфонической музыки». «Выдумал программную музыку Бетховен,— писал П. И. Чайковский,— и именно отчасти в Героической симфонии, но еще решительнее в Шестой пасторальной». Бетховен — «истинный основатель программной музыки»,— отметил в одной из своих статей С. Н. Кругликов.
А если Г. А. Ларош возражал против программного истолкования произведений Бетховена, то опять-таки в силу присущих ему формалистических заблуждений.
Программность музыки Бетховена оказывалась особенно созвучной русским композиторам потому, что сами они в своих инструментальных произведениях постоянно и настойчиво стремились к конкретности, а часто и к сюжетности музыкальных образов.
Наконец, русские почитатели Бетховена очень верно поняли и охарактеризовали мощь, глубину и последовательность музыкальной логики Бетховена, совершенство его музыкальных форм.
Показательно, что уже в середине 30-х годов XIX века Н. А. Мельгунов в своей рецензии, посвященной музыкальным вечерам Ф. Гебеля, отмечает у Бетховена непрерывность музыкально-логического развития, цельность, единство, умение «избегать заключительных аккордов (каденцов) и тем, беспрестанно обманывая ожидание слушателя, не давать ему отдыха, увлекать его далее и далее». «Про него [т. е. Бетховена.— Ю. К.] можно сказать как про Греческого бегуна: вы видели, когда он пустился и когда добежал; но бега не видали». «Как сплавлены, как вылиты в одну массу эти гигантские творения! Это целые группы из одного куска мрамора». Нет сомнения, что приведенные оценки Мельгунова отражают достаточно распространенное мнение о Бетховене, сложившееся в тогдашних русских философcко-эстетических кружках.
Впоследствии великие достоинства творческой мысли Бетховена много раз отмечались русскими музыкантами. Так, Серов писал, что «никто больше Бетховена не имеет права назваться художником-мыслителем» Кюи видел главную силу Бетховена в «неисчерпаемом тематическом богатстве», а Римский-Корсаков в «поразительной и единственной в своем роде «цельности концепции».
Силу мысли Бетховена полностью признавал даже не слишком расположенный к нему Ларош. По словам Лароша, «нет композитора в своей сфере более разнообразного и более свободного от манеры. Взятые в своей совокупности, произведения Бетховена составляют целый громадный мир; взятое отдельно, каждое сочинение поражает своим индивидуальным отпечатком, пластически выступает из общей массы и вследствие этого чрезвычайно легко запоминается и узнается, и это верно даже по отношению к самым незначительным или несимпатичным его произведениям. Кроме гениального мелодического вдохновения, бившего неиссякаемым ключом, Бетховен был великий мастер ритма и формы. Никто не умел изобретать такого разнообразия ритмов, никто не умел так заинтересовывать, увлекать, поражать и порабощать ими слушателя, как творец Героической симфонии. К этому следует прибавить гениальность формы». Бетховен «был именно гением формы, принимая «форму» в смысле группировки и композиции, то-есть в смысле концепции целого».
«Нет ничего глубже бетховенской мысли, нет ничего совершеннее бетховенской формы»,— говорил А. К. Лядов, по воспоминаниям В. Г. Вальтера
Примечательно, что П. И. Чайковский, предпочитавший, как и Ларош, Бетховену Моцарта, тем не менее писал (1876) С. И. Танееву: «Я не знаю ни одного сочинения (за исключением некоторых Бетховена), про которые можно было бы сказать, что они вполне совершенны».
«Изумляешься,— заметил Чайковский по поводу Бетховена в письме к К. Р. (1888),— до чего у этого гиганта между всеми музыкантами все одинаково полно значения и силы и вместе с тем тому, как он умел сдерживать невероятный напор своего колоссального вдохновения и никогда не упускал из виду равновесие и законченность формы. ».
История блестяще подтвердила справедливость оценок, данных творчеству Бетховена передовыми русскими музыкантами.
Ныне как нельзя более ясны прогрессивные, революционные тенденции музыки Бетховена, выразившие лучшие идеалы людей его времени, призывавшие к борьбе за свободу и счастье человечества.
Столь же ясно величие всего творческого дела Бетховена, который придал музыкальным образам особенную целеустремленность, содержательность и идейную глубину. Конечно, не Бетховен был изобретателем программной музыки — последняя существовала уже задолго до него. Но именно Бетховен с огромной настойчивостью выдвинул принцип программности, как средство наполнения музыкальных образов конкретными идеями, как средство сделать музыкальное искусство мощным орудием социальной борьбы.
Тщательное изучение жизни и творчества Бетховена многочисленными исследователями всех стран и народов показало необычайное упорство, с которым Бетховен добивался несокрушимой стройности музыкальных мыслей — дабы в этой стройности правдиво и прекрасно отразить образы внешнего мира и человеческих переживаний,— показало исключительную силу музыкальной логики гениального композитора.
Диалектичность мышления Бетховена, всегда исходящего из общего, из основной руководящей идеи, и напряженно, последовательно стремящегося воплотить эту идею в конкретных частностях — запечатлелась не только в его сочинениях, но и в самих данных биографии.
«. Когда я сознаю, чего я хочу,— говорил Бетховен Шлёссеру,— основная идея не покидает меня никогда; она поднимается, она вырастает, и я вижу и слышу цельный образ во всем его охвате, стоящим перед моим внутренним взором как бы в окончательно отлитом виде. Вы спросите меня, откуда я беру свои идеи? Этого я не в состоянии вам сказать достоверно; они появляются незванные как посредственно, так и непосредственно, я улавливаю их на лоне природы, в лесу, на прогулках, в тишине ночи, ранним утром, возбужденный настроениями, которые у поэта выражаются словами, а у меня превращаются в звуки, звучат, шумят, бушуют, пока не станут передо мною в виде нот».
Анализ бесчисленных эскизов Бетховена показывает огромную роль творческого труда (порою вдохновенно- порывистого, порою несказанно тяжелого) в выковывании как основных контуров музыкального образа, так и всех его мельчайших деталей.
«Ни у одного музыканта,— отмечает проницательный исследователь жизни и творчества Бетховена Ромен Роллан,— это схватывание мысли не было так яростно, так непобедимо, как у Бетховена. Все его композиции носят отпечаток исключительной преднамеренности в смысле единства. Все его творения в целом отмечены печатью железной воли. Чувствуется взгляд человека, который погружается в идею с ужасающей пристальностью».
Ромен Роллан, превосходно охарактеризовав величавые творческие усилия Бетховена, метко ссылается на собственные слова композитора относительно поисков мелькнувшей и ускользающей мысли: «. Я преследую ее, я схватываю ее, вижу, как она бежит и пропадает в кипящей массе. Я с возобновленной страстью схватываю ее, я не могу больше отделиться от нее, мне нужно множить ее, в судороге экстаза, по всем модуляциям. ».
Возвращаясь к оценкам Бетховена передовыми русскими композиторами и критиками, отметим, что эта оценка, будучи чрезвычайно высокой и порой восторженной, никогда не переходила, однако, в слепое преклонение. Горячая любовь русских людей к Бетховену с самого начала была требовательной любовью.
Бурный расцвет русской национальной музыкальной культуры со времени великого Глинки побуждал наших музыкантов критически относиться к отдельным сторонам творчества Бетховена. Замечания в данном плане мы находим, например, у Балакирева, Стасова, Кюи.
Особо следует остановиться на оценке русскими музыкантами последнего периода творчества Бетховена. Вопрос этот очень важен и не прост. В свое время он возбудил много споров, которые и ныне не могут считаться исчерпанными.
Первоначальная причина споров достаточно ясна. Когда Улыбышев в своей книге о Бетховене обратил преимущественную энергию своих нападок на последний период бетховенского творчества, он аргументировал во многом рутинерски. Это не могло не вызвать негодования всех почитателей Бетховена, не могло не породить полемических обострений.
Так, Серов в своих критических статьях неоднократно и усиленно подчеркивал мысль, что последний период творчества Бетховена — самый содержательный, самый высший. Эту же мысль мы встречаем в высказываниях Кюи, Бородина и других. Безоговорочно высоко расценивал последние произведения Бетховена и А. Рубинштейн, написавший даже: «О, глухота Бетховена, какое страшное несчастие для него самого и какое счастие для искусства и человечества!»
Но, говоря об особенно последовательных защитниках позднего периода творчества Бетховена, следует всегда помнить конкретные условия полемики, когда безоговорочное превознесение последних произведений Бетховена было формой борьбы с противниками Бетховена вообще (а отказ от особой защиты этих произведений мог и должен был повредить борьбе за Бетховена в целом).
Характерно, между прочим, что идеолог «Могучей кучки» В. В. Стасов, который высоко ценил позднего Бетховена, тем не менее, отдавал себе отчет в недостатках произведений этого периода. Недаром, полемизируя с Серовым, который поставил одной из главных задач своей жизни «добросовестное изучение последних произведений Бетховена», Стасов писал: «Бетховен беспредельно велик, его последние произведения колоссальны, но тот никогда не постигнет их во всей глубине, не уразумеет всех великих качеств их, а также и недостатков Бетховена, в последнее время его деятельности, если будет исходить от того нелепого закона, что «критериум лежит не в ушах потребителя» и т. д. ».
Мысль о малой доступности последних произведений Бетховена была ясно развита Чайковским. «Что бы ни говорили фанатические поклонники Бетховена, а сочинения этого музыкального гения, относящиеся к последнему периоду его композиторской деятельности, никогда не будут вполне доступны пониманию даже компетентной музыкальной публики, именно вследствие излишества основных тем и сопряженной с ними неуравновешенности формы. Красоты произведений подобного рода раскрываются для нас только при таком близком ознакомлении с ними, которого нельзя предположить в обыкновенном, хотя бы и чутком к музыке слушателе; для уразумения их нужна не только благоприятная почва, но и такая возделанность, которая возможна только в музыканте-специалисте». Вполне аналогичного взгляда на последний период творчества Бетховена придерживался и Ларош. Так, например, Ларош писал о последнем периоде (по поводу квартета cis-moll): «Такие сочинения в высшей степени симпатичны небольшому кружку людей, слышавших очень много музыки, блазированных тем, что просто и ясно, и с жадностью хватающихся за особенности и чрезвычайности; но для публики, хотя бы и самой развитой, музыка этого рода пропадает».
Бесспорно, формулировка Чайковского несколько чрезмерна. Достаточно сослаться на девятую симфонию, получившую популярность среди широких кругов музыкантов и не-музыкантов. Но все же Чайковский правильно отмечает общую тенденцию падения доходчивости поздних произведений Бетховена (та же девятая симфония менее доходчива, труднее воспринимается, чем третья или пятая).
Главной, определяющей причиной падения доходчивости, доступности музыки в поздних произведениях Бетховена явилась эволюция бетховенского мировоззрения и, особенно, мировосприятия.
С одной стороны, в девятой симфонии Бетховен поднялся до высших, прогрессивнейших своих идей свободы и братства. Но, с другой стороны, исторические условия общественной реакции, в которых протекало позднее творчество Бетховена, наложили на это творчество свой характерный отпечаток.
В поздние годы Бетховен сильнее ощущал мучительный разлад между прекрасными мечтами и гнетущей действительностью, меньше находил точек опоры в реальной общественной жизни, больше склонялся к отвлеченному философствованию.
Бесчисленные страдания и разочарования личной жизни Бетховена послужили чрезвычайно сильным усугубляющим поводом к развитию в его музыке черт эмоциональной неуравновешенности, порывов мечтательного фантазерства, стремлений замкнуться в мире обаятельных иллюзий или суровых предписаний долга и рассудка.
Особую, огромную роль сыграла и трагическая для музыканта утрата слуха.
Несомненно, что творчество Бетховена в последнем его периоде явилось величайшим подвигом ума, чувства и воли. Это творчество свидетельствует не только о необыкновенной глубине мышления стареющего мастера, не только об изумительной мощи его внутреннего слуха и музыкального воображения, но и об исторической прозорливости пения, который, преодолевая катастрофический для музыканта недуг глухоты, смог сделать дальнейшие шаги по пути формирования новых интонаций и форм (безусловно, Бетховен изучал глазами музыку ряда молодых современников — в частности, Шуберта). Но, все же, в конечном итоге, утрата слуха оказалась для Бетховена как композитора, разумеется, не благодетельной. Ведь дело было в разрыве важнейших для музыканта специфических; слуховых связей с внешним миром, в необходимости питаться лишь старым запасом слуховых представлений. А этот разрыв неизбежно сильнейшим образом повлиял на всю творческую психику Бетховена (хотя способность широко познавать мир при посредстве других чувств у глухого композитора сохранилась). Не в бедности мировосприятия заключалась трагедия утратившего слух Бетховена (творческая личность которого развивалась, а не деградировала), но в огромной трудности для него находить соответствие между мыслью, идеей и интонационным воплощением ее. Это послужило добавочной причиной частичной абстрактности, «чрезвычайности» и малой доходчивости ряда произведений позднего периода бетховенского творчества, что не лишает их чрезвычайного своеобразия художественных идей, неповторимой эстетической ценности.
Русские люди, высоко оценившие творчество Бетховена в целом, издавна питали и питают сердечную привязанность к его фортепианным сонатам.
Так, по свидетельству В. П. Боткина (относящемуся еще к 1836 году), «в каждом доме, где сколько-нибудь занимаются музыкой», можно было найти «две-три сонаты Бетховена». А более шестидесяти лет спустя Ростислав Геника писал в своей брошюре о Бетховене: «Его одинаково чтут и любят артисты и дилетанты, классики и новаторы, германцы, романцы и славяне, старики и подростки; без его сонат не обойдется ни одна музыкальная школа, почти ни один концерт пианиста; в самой далекой глуши, в самой скромной обстановке, на музыкальной этажерке непременно найдется тетрадь бетховенских сонат».
Знаменательно, что в России, русским музыкантом был опубликован и первый обобщающий анализ фортепианных сонат Бетховена. Имеем в виду книгу В. Ленца (1808—1883) «Бетховен и его три стиля», которая, равно как и более поздний труд того же автора, осталась доныне ценным вкладом в бетховениану. Ленцу удалось с убедительностью выявить три основных периода творчества Бетховена на материале его фортепианных сонат. Исследование Ленца особенно примечательно как стремлением показать поэтически образный смысл сонат Бетховена, так и ориентацией на широкие круги любителей музыки. Сам автор писал: «Эта книга отнюдь не есть книга техническая, она обращается ко всем, кто ценит музыку наравне с литературой; ибо музыка имеет значение лишь постольку, поскольку ее сопереживают достаточно, чтобы видеть в ней улучшенное изображение жизни. В искусствах все определяется идеей, технический аппарат, предназначенный для выражения идеи, должен быть на втором плане. Следовательно, в искусствах следует прежде всего искать человека».
В своих общих оценках фортепианных сонат Бетховена Ленц отмечал их «симфонический» характер, их глубочайшую содержательность, их огромное значение в искусстве и этическое могущество.
Естественно, что книга Ленца, по словам Серова, «отвечала всеми ощущаемой потребности разобрать Бетховена поглубже, чем его разбирали прежде, и имела поэтому большой успех, какого не испытало до тех пор ни одно произведение музыкальной критики, как в России, так и в Германии, во Франции, в Бельгии».
В дальнейшем ни один серьезный исследователь творчества Бетховена не проходил мимо книг Ленца, явившихся первой крупной данью Бетховену со стороны русского музыковедения.
Чтобы показать, насколько ценили русские музыканты фортепианные сонаты Бетховена, можно сослаться еще на некоторые факты.
М. А. Балакирев, по свидетельству Улыбышева, будучи еще юношей, играл все фортепианные сонаты Бетховена и тщательно изучал их.
А. Н. Серов посвятил этим сонатам немало проницательных замечаний в своих критических статьях. Нельзя не оценить, например, весьма метких слов Серова, что «Бетховен каждую сонату создавал не иначе, как на заранее обдуманный «сюжет».
Серов отметил и особую роль фортепианной музыки в творчестве Бетховена. «Весь полный идеею симфонии — задачею своей жизни, Бетховен импровизировал на фортепиано: этому инструменту — суррогату оркестра — он поверял вдохновенные мысли, которые его переполняли и из этих импровизаций выходили отдельные поэмы, в форме фортепианных сонат. Значит, изучение бетховеновой фортепианной музыки есть уже знакомство с целым его творчеством, в трех его видоизменениях».
Чутко уловил Серов наличие славянского элемента во многих фортепианных сонатах Бетховена, указав, тем самым, на важнейший факт связи творчества Бетховена со славянским (в частности — русским) фольклором.
Усматривая в ряде сонат Бетховена пейзажность, Серов, опять таки, указывал на программные черты бетховенского творчества, подчеркивал реалистическую конкретность этого творчества.
Немало восторженных и часто весьма справедливых, высказываний посвятил бетховенским фортепианным сонатам А. Г. Рубинштейн.
Об интересе к фортепианным сонатам Бетховена со стороны П. И. Чайковского свидетельствует, между прочим, одно из его писем к Н. Ф. Мекк из имения Симаки, в котором великий русский симфонист настойчиво просит прислать ему эти сонаты.
Бесспорно аналогичное внимание к сонатному фортепианному творчеству Бетховена со стороны В. В. Стасова, Ц. А. Кюи, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова. Внимательным изучением фортепианных сонат Бетховена (в частности их тональных планов и форм) занимались С. И. Танеев и А. Н. Скрябин.
Как бы мы ни умножали примеры — совокупность их все же останется неполной. Не было ни одного мало-мальски серьезного русского музыканта, который не отдал бы дани уважения и любви наследию бетховенского сонатного фортепианного творчества.
Великая Октябрьская социалистическая революция расширила и укрепила славу Бетховена в России.
Гениальный основатель советского государства В. И. Ленин высоко ценил творчество Бетховена. Со времени революции музыка Бетховена стала в нашей стране особенно любимой, особенно дорогой. Эта музыка неуклонно продолжает привлекать живейшее внимание исполнителей, концертных организаций, композиторов, музыковедов, советской прессы и — главное — миллионов советских слушателей.
Первый советский нарком просвещения, А. В. Луначарский хорошо охарактеризовал непреходящее значение творчества Бетховена словами: «Бетховен ближе к грядущему дню, Бетховен более интимный сосед искусству социализма, чем хронологические соседи последних десятилетий».
Отмечая чрезвычайное богатство образов в музыке Бетховена, Луначарский писал: «Жизнь есть борьба, которая несет с собою огромное количество страданий. Но Жизнь есть также возможность, вероятность, даже неизбежность победы, хотя и ценою страданий. В сознании своего собственного мужества, своего упорства и непокорности в моменты отдельных частных побед, черпает человек свое героическое счастье. Конечно, не отрицал Бетховен и того, что эта суровая и захватывающая жизнь иногда бывает украшена нежными цветами: детство, непосредственная радость, глубокая, всегда немного грустная любовь к женщине, говорящая о возможной гармонии бытия, лики величавой, спокойной, ласковой природы, которые она иногда раскрывает перед человеком,— все это, и многое другое, приводит Бетховена, так сказать, к дополнительной теме рядом с основной темой героической и полной веры в победу борьбы».
По справедливым словам Луначарского, «все личные бедствия и даже общественная реакция только углубляли в Бетховене его мрачное, великанское отрицание неправды существующего порядка, его богатырскую волю к борьбе и его непоколебимую веру в победу. Вот почему правы те, кто говорит, что Бетховен является как раз выразителем такого момента в развитии музыки, который совершенно близок нашей эпохе. Вот почему подлинная современная аудитория нашей эпохи слушает Бетховена с таким сердечным замиранием и откликается на него с таким бурным восторгом».
Вместе со всем творческим наследием гениального композитора продолжают свое неувядаемое цветение его фортепианные сонаты, нашедшие в условиях советской культуры самую широкую популярность.
Крупнейший советский музыковед Б. В. Асафьев еще в 1927 году дал очень глубокое и верное определение фортепианных сонат Бетховена:
«Сонаты Бетховена в целом — это вся жизнь человека. Кажется, что нет эмоциональных состояний, которые так или иначе не нашли бы здесь своего отражения, нет душевных конфликтов, которые не преломились бы здесь в музыкально-динамическом плане. В своих сонатах Бетховен и выдающийся зодчий, и чуткий психолог, и знаток колоритной фортепианной инструментовки, владеющий тончайшими оттенками краски и светотени. Все его сонатные постройки отличаются конструктивной логикой и прочной спаянностью элементов. Мелодическое богатство спорит с гармонической изобретательностью и неисчерпаемыми открытиями в сфере тональных соотношений и сопоставлений. У Бетховена нет безжизненных сонат, ибо нет путаных приемов. У него творческое художественное строительство так тесно связано с жизнеощущениями и с интенсивностью реакций-откликов на окружающую действительность, что нет никакой возможности и необходимости отделять Бетховена — мастера и зодчего музыки от Бетховена — человека, нервно реагировавшего на впечатления, которые и определяли силой своей тон и строй его музыки. Сонаты Бетховена, поэтому, глубоко актуальны и жизненно-содержательны».
Добавим, что именно эта «двусторонность» Бетховена как «человека» и «зодчего», создает особые трудности анализа его произведений. Особые — потому, что обе стороны развиты в музыке Бетховена с исключительной силой и властно манят к себе.
Настойчивые поиски руководящей поэтической идеи заставляют сожалеть о слабеющем внимании к необыкновенной силе и стройности бетховенской логики, бетховенских форм. А когда внимание обращается преимущественно к этим формам — грозит ускользнуть великая одушевляющая их идея.
В имеющихся анализах бетховенских сонат (Ленца, Улыбышева, Рубинштейна, Серова, А. Б. Маркса, Нагеля, Римана, Ромена Роллана, Асафьева) постоянно преобладает то та, то другая сторона. Порой господствует совершенная односторонность — как, например, в формалистическом разборе бетховенских фортепианных сонат Гуго Риманом.
Предлагаемый очерк не ставит своей задачей всесторонний анализ сонатного фортепианного творчества Бетховена. Автор стремится при сохранении возможной сжатости и доступности уделить главное внимание образному содержанию музыки.
Что касается фактов биографии Бетховена, то читатель найдет их в специальных работах (например, в книге А. Альшванга «Бетховен», М., Музгиз, 1952). Поочередный разбор 32-х сонат Бетховена в порядке их опусов является, вместе с тем, попыткой обрисовать эволюцию бетховенского фортепианного сонатного творчества.
Все нотные цитаты даны по изданию: Бетховен. Сонаты для фортепиано. М., Музгиз, 1946. (редакция Ф. Лямонда), в двух томах. Нумерация тактов дается также по этому изданию.
Громадная популярность лучших фортепианных сонат Бетховена вытекает из глубины и разносторонности их содержания. Меткие слова Серова о том, что «Бетховен каждую сонату создавал не иначе, как на заранее обдуманный сюжет» находят свое подтверждение при анализе их музыки.
Как уже говорилось выше, фортепианное сонатное творчество Бетховена уже по самой сути камерного жанра особенно часто обращалось к лирическим образам, к выражению личных переживаний. Но верный высоким гражданским идеалам, Бетховен и в своих фортепианных сонатах всегда связывал лирику с основными, самыми существенными этическими проблемами современности.
Об этом ясно свидетельствует уже широта интонационного фонда бетховенских фортепианных сонат.
Многое Бетховен, конечно, мог почерпнуть у своих предшественников — прежде всего, у Себастьяна Баха, Гайдна и Моцарта.
Чрезвычайная интонационная правдивость Баха, с неведомой дотоле силой отразившего в своем творчестве интонации человеческой речи, человеческого голоса, народная напевность и танцевальность Гайдна, его поэтическое ощущение природы, пластичность и тонкий психологизм эмоций в музыке Моцарта — все это было широко воспринято и претворено Бетховеном.
Вместе с тем, Бетховен сделал много решительных шагов вперед по пути реализма музыкальных образов, равно заботясь и о реализме интонаций и о реализме логики.
Интонационный фонд фортепианных сонат Бетховена весьма обширен, но отличается необычайным единством и стройностью.
Интонации человеческой речи в их разностороннем богатстве, всевозможные звуки природы, военные и охотничьи фанфары, пастушьи наигрыши, ритмы и гулы шагов, воинственных скачек, тяжелых движений людских масс — все это и очень многое другое (конечно, в музыкальном переосмыслении), вошло в интонационный фонд фортепианных сонат Бетховена и послужило элементами строительства реалистических образов.
Будучи сыном своей эпохи, современником революций и войн, Бетховен гениально сумел сконцентрировать в ядре своего интонационного фонда самые существенные элементы и придать им обобщающий смысл.
Постоянно, систематически пользуясь интонациями народной песни, Бетховен, однако, не цитировал их, но делал основополагающим материалом для сложных, разветвленных образных построений своей философской по складу творческой мысли.
Так, например, именно Бетховен с необыкновенной силой и рельефностью выразил в столкновениях интонаций насущную этико-психологическую проблему эпохи — мужество или робость, борьба или подчинение? Внутритемная схватка противоречивых интонационных начал становится движущей пружиной целого ряда бетховенских концепций. Вокруг главной дилеммы — сопротивление или покорность,— решавшейся им в пользу сопротивления, героической борьбы со злом, Бетховен сгруппировал и развил необыкновенное богатство интонаций, выражающих гнев, нежность, порывистость, ласку, мольбу, упреки, стойкость, отчаяние и т. д.
Но Бетховен не ограничился воплощением человека, он задался целью передать и фон событий. Бетховен настойчиво стремился к полноценной реалистической многосторонности музыкальных образов, к выражению не только характеров, но и обстоятельств.
Так, например, посредствующее звено героики было найдено композитором в фанфарных и маршевых формулах, связывающих героическую личность с обстановкой великих событий. От интонаций фанфар и маршей Бетховен шел к монументальной звукописи движений людских масс.
Другая важнейшая тенденция интонационных истоков музыки Бетховена дала себя знать в звуках природы — т. е. той области, которая обаянием своего поэтического мира особенно решительно противостояла воинственной героике и дополняла ее.
Постоянно сталкивая или сочетая эти два начала, сплавляя фанфарное с речевым, маршевое с пейзажным, выразительное с изобразительным и т. д. и т. п.— Бетховен достигал исключительного многообразия и потрясающей жизненности музыкальных образов.
Рельефность и выразительность интонаций Бетховена смогли проявиться только на основе его могучей и чрезвычайно глубокой музыкальной логики, отразившей передовое мышление эпохи, проникнутой пониманием необходимости борьбы, существования действенных движущих вперед противоречий.
В результате стремления Бетховена сделать свои фортепианные сонаты максимально содержательными и образными рождалась и развивалась их программность.
Реалистические основы программности не были до конца осознаны композитором, да этого и нельзя было требовать от человека, жившего в условиях господства немецкой идеалистической философии. Бетховен еще несколько опасался последовательного утверждения программных принципов.
Однако творческий гений Бетховена настойчиво и неуклонно влек его по пути фактического развития и укрепления программности — в том числе, и в фортепианных сонатах.
Не человек, как таковой, но человек, данный в конкретной обстановке, на предметном фоне внешнего мира — вот наиболее существенная реалистическая тенденция бетховенеких фортепианных сонат.
В центре творческого внимания Бетховена постоянно оказывались человек, человеческое общество, быт и природа. Строя свои концепции, Бетховен всегда показывал отношение человека к внешнему миру, всегда стремился дать субъект не в отрыве, а в единстве с объектом, с реальной действительностью.
Разумеется, бетховенские фортепианные сонаты не дают полного представления о сущности, путях и итогах развития бетховенского творчества в целом. Однако по ним все же можно достаточно ясно судить не только о главных этапах, но и о многочисленных оттенках этого развития.
Причина — богатый материал фортепианных сонат, представляющих различные периоды бетховенского творчества, и высокая художественная ценность этих сонат, большинство которых относится к числу лучших сочинений Бетховена.
Одним из наиболее замечательных достижений Бетховена в трактовке сонаты явилось стремление к ее образной цельности, к ее сюжетно-программному единству. На этом пути Бетховен, решительно преодолевая старые традиции сюитности, весьма далеко уходит вперед. Лучшие сонаты Бетховена (а в известной мере — все его сонаты) отличаются чрезвычайным единством сюжетного замысла. В таких сонатах, как «лунная», семнадцатая, «аппассионата» и другие — мы с начала до конца следим за неуклонным развитием образов инструментальной драмы, и развязку находим лишь на последней странице. Эта настойчивая забота Бетховена о содержательности формы и о максимальной оформленности содержания обусловила его необыкновенные заслуги в истории музыки.
Обозревая эволюцию форм фортепианных сонат Бетховена в целом, мы видим, что все факторы этой эволюции явственно отражают развитие содержания сонат. Перед нами открывается чрезвычайное упорство, многосторонность, планомерность и гибкость творческих исканий Бетховена, всячески избегающего каких-либо готовых схематических решений, выковывающего такие формы, которые с максимальной силой, ясностью, естественностью способны выразить и данную совокупность образов, и основные тенденции данного этапа развития творческой мысли композитора вообще.
Исключительно смелым новатором явился Бетховен и в области фортепианного стиля, пианизма своих сонат.
В частности, замечательным достижением пианизма Бетховена стало legato, певучесть, глубина и насыщенность тона, достигаемые и соответственным употреблением фортепианных регистров и характером окутывающей мелодию аккордовой фактуры. В пианизме Бетховена сформировалось и развилось искусство педали как могучего выразительного средства.
Но певучее legato — лишь одно из завоеваний Бетховена — особенно бросающееся в глаза в силу связи с существеннейшими качествами теплой, задушевной, проникновенной бетховенской лирики.
Пианизм Бетховена в целом отличается огромной масштабностью и разнообразием своих сторон. Наряду с legato, Бетховен широко разработал всевозможные другие стороны и приемы выразительной игры на фортепиано. Путем контрастных смен и чередований legato и staccato, певучести и отрывистости, путем многообразной и тонко нюансированной фразировки Бетховен добивался новых, неслыханных дотоле выразительных эффектов, ставших впоследствии всеобщим достоянием.
Особо следует отметить роль «оркестральности» в пианизме Бетховена. Пылкое, богатое оркестровое воображение никогда не покидало композитора — оно переливалось и в фортепианные его образы. Отсюда — новаторская многопланность бетховенской фортепианной фактуры, воспроизводящей своими средствами многопланность оркестра с его игрой регистров и тембров. Развитием такой «оркестральности» Бетховен необыкновенно обогатил ресурсы пианизма, открыл перед ним широкие возможности.
Сопоставляя пианизм Бетховена с пианизмом его предшественников и пианизмом его последователей, мы наглядно видим всю огромность бетховенского вклада в развитие фортепианной игры, в историю фортепианной музыки.
Бетховен жил в переломную эпоху, и это в значительной мере определило пути развития его творчества. Революционные бури, питавшиеся движением широких народных масс, выдвинули на первый план проблему становления нового человека. Идеи свободы, равенства и братства призывали разрушить систему порядков и этических установлений феодального строя, утвердить разумную человечность, основанную на началах добра и справедливости. Но тут же стало ясно обнаруживаться, что эти передовые идеи не соответствуют реальным возможностям совершившегося и совершающегося буржуазного переворота, что неизбежно — или отказаться от них, или отодвинуть их осуществление в далекое будущее.
Поскольку Бетховен принадлежал к числу самых передовых и самых гуманных, притом наиболее действенных, волевых и светло мыслящих художников своей эпохи — он, конечно, не смог удовлетвориться отказом. Утверждение великих начал человечности и отстаивание этих начал в тисках мучительного конфликта желанного с возможным явилось основным моральным подвигом Бетховена.
Творческий путь Бетховена в его фортепианных сонатах оказался сложным и богатым этапами.
В ранних сонатах уже формируется круг творческих идей характерно бетховенского склада. Мы видим, как выковывает Бетховен интонации героики и интонации природы, как он борется за интонационное богатство образов, вырабатывает реалистические основы передачи переживаний, добивается психологической глубины и драматизма музыки.
Вместе с тем, в раннем периоде еще очень заметны влияния традиций. Примечательно, например, что героика бетховенских тем еще обнаруживает порой связи с охотничьими фанфарами, а его пасторальность не свободна от идиллических пережитков XVIII века. Не вполне порваны и связи Бетховена с иллюзиями аристократических салонов, с обманчивыми красотами блеска светской жизни. Увлекает Бетховена и наполеоновская героика, полная показной импозантности и кажущегося свободолюбия. Но, внимательно вслушиваясь в музыку ранних сонат Бетховена, можно уже тут заметить, что колебания и иллюзии Бетховена никогда не приводят его к сдаче позиций, что в самых своих уступках он сохраняет энергию их преодоления, силу подлинно принципиального и последовательного движения вперед.
Глубокие разочарования личных привязанностей заставляют Бетховена с особой силой утверждать ценность привязанностей вообще, ценность подлинного, сильного и цельного человеческого чувства. Разочарование в «освободительной» героике буржуазных войн и в главном их герое — Наполеоне не отталкивает Бетховена от героизма вообще. Напротив, Бетховен ищет нового, высшего героизма. Он стремится познать и претворить революционный героизм масс, он чувствует и творчески приветствует формирование немецкой нации, мечтая в то же время, о единении всего человечества, мужественно отстаивая своей музыкой те идеи свободы, равенства и братства, которые все более решительно отбрасываются формирующимся буржуазным обществом.
Бетховен среднего периода, на последней грани которого высится колосс «аппассионаты», предстает перед нами во всей необычайной мощи своего творческого мышления. Тут Бетховен поистине стоит на рубеже двух эпох — эпохи разума и эпохи чувства, олицетворяя революционную страсть, вооруженную великими идеями. Необыкновенная эмоциональная насыщенность и колоссальная сила логики, вот два качества, которые в своей совокупности определяют своеобразие облика Бетховена, творчество которого не может быть отнесено ни к классицизму, ни к романтизму.
Классическая стройность, гармоничность уже нарушены Бетховеном, нарушены неуемным кипением его эмоций. Но это кипение еще не растекается романтическими порывами — оно оковано стальной броней воли и разума.
В среднем периоде достигают высшего развития все стороны динамики бетховенского музыкального мышления. Они и в бетховенской мелосе, нерасторжимо сочетающем страстность с конструктивностью, и в его гармонии, где многообразие красок подчинено функциональной стройности, и в его несравненном ритме, столь жизненно реальном и, вместе с тем столь способствующем ясности, кристаллической четкости развития форм.
В творчестве позднего Бетховена появляются новые тенденции. События гражданской истории показывают Бетховену с каждым годом все яснее неосуществимость в ближайшее время лучших человеческих идеалов его жизни. Но Бетховен не изменяет этим идеалам; напротив, в своей девятой симфонии он доходит до их высшего, наиболее отчетливого и последовательного выражения.
Однако действительность неумолимо развивается своим чередом и вовлекает Бетховена в свое русло. Тяготея в душе к подлинному слиянию национального с народным, к демократическому патриотизму, Бетховен временами колеблется, отдавая вынужденную дань почитанию сильных мира сего или официальному славословию побед («Веллингтон у Виттории»).
При всех необыкновенных качествах своей титанической индивидуальности, Бетховен, конечно, не может совершенно выйти из эпохи со свойственным ей падением революционного энтузиазма, с появлением и быстрым развитием тенденций, отделяющих чувство от разума, эмоцию от воли, ищущих отдохновения, предающихся разочарованию.
Страшный враг Бетховена — глухота — чрезвычайно осложняет положение вещей, так как непосредственные связи Бетховена со звуковой реальностью утрачиваются.
Творчество позднего Бетховена обнаруживает нарушение того необыкновенного единства рационального и эмоционального начал, чувства, разума, воли,— которое столь типично для Бетховена средней поры.
Разумеется, это не дает права для вывода, что поздний Бетховен покидает свои идейные позиции. Творчество позднего Бетховена — мужественный итог деятельности ослабевшего борца, не находящего поддержки своим стремлениям, но преданного им с прежней силой и, более того, обретшего мудрость большого жизненного опыта.
Как мыслитель Бетховен в своих поздних сонатах стоит даже выше, чем Бетховен среднего периода. Он достигает чрезвычайной диференциации и многосторонности образов, исключительно тонкого психологизма оттенков. Но прежней монолитности эмоционального, интеллектуального и волевого тут уже нет. Ход развития общества влечет Бетховена в сторону формирования основ романтического искусства, и Бетховен поразительно предвосхищает различные тенденции творчества Шуберта, Шумана, Шопена. Однако отрыв от слуховых впечатлений не позволяет Бетховену свободно отдаться крепнущему потоку романтики. Необходимость жить слуховой памятью и слуховым воображением накладывает на мышление позднего Бетховена печать отвлеченности, хотя временами, ценой огромных усилий, Бетховену удается как бы преодолеть болезнь и достичь совершенной цельности всех средств выражения (как например, в первой части сонаты ор. 106).
В остальном поздний Бетховен постоянно колеблется между эмоциональным и рациональным. Эмоциональное неудержимо влечет его, но именно тут сказывается незаменимость реального слуха слуховыми представлениями, неизбежность превращения звуковых образов в возвышенный мираж фантазии. Временами Бетховен пытается целиком довериться области разума, но тут сразу обнаруживается несовместимость этого пути с цельными основами бетховенского искусства.
И все же — трагизм позднего Бетховена в основе своей оптимистичен, так как свидетельствует не о разрыве глухого музыканта с действительностью, но о величаво-героических попытках его восполнить потерю слуха всеми возможными средствами мышления в целом, и остаться композитором, идущим вo главе века.
Этот подвиг был Бетховеном совершен, и мир признал его любимым своим героем — не только в области искусства, но и в области высших достоинств духа.
Фортепианные сонаты — одна из лучших, драгоценнейших частей гениального наследия Бетховена. В длинной и волнующей веренице их великолепных образов перед нами проходит вся жизнь великого таланта, великого ума и великого сердца, не чуждого ничему человеческому, но именно поэтому отдавшего все свои биения самым дорогим, самым священным идеалам передового человечества.
Источник