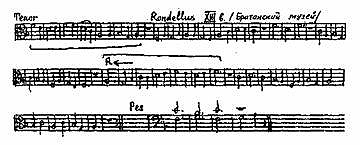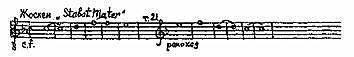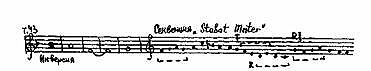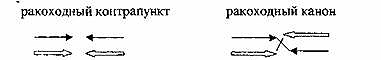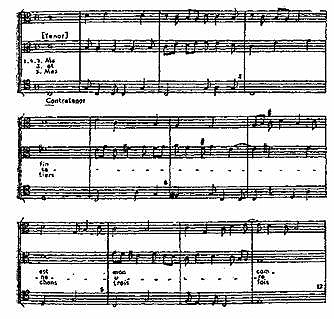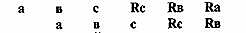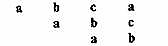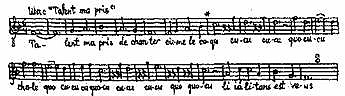Гийом де Машо
Пожалуйста дайте ссылку на светские произведения Гильома де Машо mp3.
На этом диске Месса и 6 песен (если интересно, что за песни и что за месса, отсканирую буклет с текстами).
Гийом де Машо.rar
Вот здесь есть гокет и ещё три каких-то светских произведения:
http://www.classicalarchives.com/early/m.html#MACHAUT
где-то я видела много старинной музыки. забыла, как назывался ресурс. надо вспомнить.
Неправильно прочитала название — получилось Ле какой-то Флорентины. Там, кстати, в чётных частях трехголосные бесконечные каноны второго разряда! А рондо «Мой конец-моё начало» и вовсе уникальная форма: тенор и триплум воспроизводят друг друга в ракоходе, а контратенор состоит из двух разделов, второй из которых является ракоходом первого.
Возможно, все это и так знают, но до меня «дошло» только сейчас 😆
Написали бы уж, как надо тогда. Оставляю пальму первенства Вам 8)
а чтобы узнать, как надо — пусть скачивают. Тем более, что я всё равно не знаю, как переводится Le Lai de la fonteinne и почему оно так называется.
LE LAI DE LA FONTEINNE (The Lay of the Fountain)
The Lai de la Fonteinne is in essence a prayer and hymn of praise to the Virgin and a meditation on the nature of the Trinity, likened by the poet to a fountain. The fountain itself, the stream flowing from it and its source are three apparently separate things, which in reality are one: God the Father is the source, the fountain is the Son, and the stream is the Holy Ghost. The cleansing and thirst-quenching properties of water, its strength to remain itself even as ice or vapour, the fount of harmony and purity — all are invoked as images uniting in the vision of the Virgin as the true foundation of faith: «just like water the sweet fruit of life took on human flesh in your empty womb».
The lai was a major form of earlier medieval song-poetry and it is not surprising to find Machaut inheriting the tradition. What is surprising is to discover that four of his lais are polyphonic, though always derived from the single line of a solo singer. The Lai de la Fonteinne has twelve stanzas, the standard number, which subdivide conveniently into six monodic and six polyphonic sections, alternating these textures throughout. The use of three voices of course reflects the lai’s subject and the three-in-one principle further reflects the particular substance of given stanzas, as does the canonic nature of the music — one voice makes three which are in fact but one.
Such play with words, with numbers, and finally with sound itself is not mere play, but a vitally serious and profoundly inevitable interplay of artistic invention and the recognition of eternal necessities, truths, that surround us and support us. They can be loose and flexible, utterly fluid, yet are ultimately irresistible. Man seeks to harness this force, to reflect it in his own works, by careful construction in accordance with the immutable laws of number and physics, which in turn free him to create and recreate those games of light and darkness that we call the arts.
*************
Лэ об источнике
по начальным словам» Не устаю я умолять Даму дорогую»
Je ne cesse de prier A ma dame chiere
LE LAI DE LA FONTEINNE (Лэ об Источнике)
по просьбе (некоторых) форумчан даю перевод текста из буклета к диску The Hilliard Ensemble. Диск был подарен мне моим замечательным другом, большим знатоком музыки, в прошлом форумчанином, Юрием Лезнером.
Перевел (по моей просьбе) нынешний форумчанин Aэробушек, тоже прекраный знаток самой разной музыки. :solution:
Лэ об Источнике, по сути, — молитва и хвалебный гимн пресвятой деве, а также размышление о природе Троицы, которую поэт уподобляет ключу. Сам ключ, ручей, струящийся из него, и его источник – три, на первый взгляд, разные вещи, на деле суть одно: Бог-отец – исток, ключ – сын, ручей – Святой дух. Очищающая и жаждоутоляющая сила воды, ее способность оставаться собой даже в виде льда или тумана, источник гармонии и чистоты – поэт взывает к этим образам, сливающимся в видении Девы, истинного оплота веры,: “подобно воде, сладкий плод жизни обрел человеческую плоть в твоем пустом лоне”.
Лэ было главной песенно-поэтической формой раннего средневековья, и неудивительно, что Машо наследует эту традицию. Удивительно другое — четыре из написанных им лэ многоголосны, хотя основой многоголосия каждый раз становится единая строка солиста. Лэ о Источнике состоит из стандартных 12 строф, подразделяющихся на 6 монодических и 6 полифонических разделов, которые чередуются на протяжении всего текста. Использование трех голосов, конечно же, отражает общую тему лэ, а содержание конкретных строф углубляется принципом триединства, чему служит также каноническая природа музыкального текста – одноголосие становится трёхголосием, которое по сути едино.
Подобная игра словами, числами и, наконец, самим звучанием – не просто игра, а взаимосвязь Подобная вязь слов, чисел, звуков – не просто вязь, а предельно серьезная и по сути неизбежная взаимос-вязь художественного вымысла и осознания вечных потребностей, истин, которые окружают и поддерживают нас. Они могут быть неясными и гибкими, вечно изменчивыми, но в конечном счете – совершенно неопровержимыми. Человек хочет обуздать эти силы, отразить их в своих творениях, создавая их в точном соответствии с неизменными законами числа и физики, которые в свой черед дают ему свободу создавать и воссоздавать эти игры света и тьмы, которые мы называем искусствами
Источник
Мой конец мое начало ноты
а чтобы узнать, как надо — пусть скачивают. Тем более, что я всё равно не знаю, как переводится Le Lai de la fonteinne и почему оно так называется.
LE LAI DE LA FONTEINNE (The Lay of the Fountain)
The Lai de la Fonteinne is in essence a prayer and hymn of praise to the Virgin and a meditation on the nature of the Trinity, likened by the poet to a fountain. The fountain itself, the stream flowing from it and its source are three apparently separate things, which in reality are one: God the Father is the source, the fountain is the Son, and the stream is the Holy Ghost. The cleansing and thirst-quenching properties of water, its strength to remain itself even as ice or vapour, the fount of harmony and purity — all are invoked as images uniting in the vision of the Virgin as the true foundation of faith: «just like water the sweet fruit of life took on human flesh in your empty womb».
The lai was a major form of earlier medieval song-poetry and it is not surprising to find Machaut inheriting the tradition. What is surprising is to discover that four of his lais are polyphonic, though always derived from the single line of a solo singer. The Lai de la Fonteinne has twelve stanzas, the standard number, which subdivide conveniently into six monodic and six polyphonic sections, alternating these textures throughout. The use of three voices of course reflects the lai’s subject and the three-in-one principle further reflects the particular substance of given stanzas, as does the canonic nature of the music — one voice makes three which are in fact but one.
Such play with words, with numbers, and finally with sound itself is not mere play, but a vitally serious and profoundly inevitable interplay of artistic invention and the recognition of eternal necessities, truths, that surround us and support us. They can be loose and flexible, utterly fluid, yet are ultimately irresistible. Man seeks to harness this force, to reflect it in his own works, by careful construction in accordance with the immutable laws of number and physics, which in turn free him to create and recreate those games of light and darkness that we call the arts.
*************
Лэ об источнике
по начальным словам» Не устаю я умолять Даму дорогую»
Je ne cesse de prier A ma dame chiere
я всё равно не знаю, как переводится Le Lai de la fonteinne и почему оно так называется.
LE LAI DE LA FONTEINNE (Лэ об Источнике)
по просьбе (некоторых) форумчан даю перевод текста из буклета к диску The Hilliard Ensemble. Диск был подарен мне моим замечательным другом, большим знатоком музыки, в прошлом форумчанином, Юрием Лезнером.
Перевел (по моей просьбе) нынешний форумчанин Aэробушек, тоже прекраный знаток самой разной музыки. :solution:
Лэ об Источнике, по сути, — молитва и хвалебный гимн пресвятой деве, а также размышление о природе Троицы, которую поэт уподобляет ключу. Сам ключ, ручей, струящийся из него, и его источник – три, на первый взгляд, разные вещи, на деле суть одно: Бог-отец – исток, ключ – сын, ручей – Святой дух. Очищающая и жаждоутоляющая сила воды, ее способность оставаться собой даже в виде льда или тумана, источник гармонии и чистоты – поэт взывает к этим образам, сливающимся в видении Девы, истинного оплота веры,: “подобно воде, сладкий плод жизни обрел человеческую плоть в твоем пустом лоне”.
Лэ было главной песенно-поэтической формой раннего средневековья, и неудивительно, что Машо наследует эту традицию. Удивительно другое — четыре из написанных им лэ многоголосны, хотя основой многоголосия каждый раз становится единая строка солиста. Лэ о Источнике состоит из стандартных 12 строф, подразделяющихся на 6 монодических и 6 полифонических разделов, которые чередуются на протяжении всего текста. Использование трех голосов, конечно же, отражает общую тему лэ, а содержание конкретных строф углубляется принципом триединства, чему служит также каноническая природа музыкального текста – одноголосие становится трёхголосием, которое по сути едино.
Подобная игра словами, числами и, наконец, самим звучанием – не просто игра, а взаимосвязь Подобная вязь слов, чисел, звуков – не просто вязь, а предельно серьезная и по сути неизбежная взаимос-вязь художественного вымысла и осознания вечных потребностей, истин, которые окружают и поддерживают нас. Они могут быть неясными и гибкими, вечно изменчивыми, но в конечном счете – совершенно неопровержимыми. Человек хочет обуздать эти силы, отразить их в своих творениях, создавая их в точном соответствии с неизменными законами числа и физики, которые в свой черед дают ему свободу создавать и воссоздавать эти игры света и тьмы, которые мы называем искусствами
Источник
Мой конец мое начало ноты
РАКОХОД В ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКЕ ХШ — Х IV ВЕКОВ
Первый из известных в истории музыки примеров ракохода Г.Риман (213, 497) и В.Апель (183, 728) датируют XIII веком. Это клаузула* «N us — mi — do » времен парижской школы Нотр-Дам, в которой тенор исполняет литургическую мелодию « Dominus » в
* — термин клаузула (от лат . з аключение, окончание) имеет два значения: многоголосное окончание к одноголосным церковным песнопениям и само стоятельная музыкальная композиция с остинатным повторением в те норе хорала, предтеча мотета)
ракоходном виде . Она приведена в « Repertorium organorum . » Ф Людвига (202, с.. 80). С этого времени такие эволюции тенора становятся одним из способов варьирования музыкального материала и неоднократно встречаются в музыке.
Во втором томе «Катехизиса истории музыки» Г.Риман приво дит нотный образе ц- анонимный Rondellus из рукописи XIII века, хранящейся в лондонском Британском музее (114,41). Этот четы рехголосный загадочный канон буквально совпадает по технике письма с английским Летним каноном: тенора последовательно вступают с мелодией, а два баса исполняют остинато « Pes ». Зато в самой мелодической линии с такта 29 обнаруживается ракоход-н ый вариант начального построения, пример 6.
Сравнивая их, можно видеть, что действию возвратного прин ципа подвергается только звуковысотная сторона мелодии, тогда как ритмический рисунок, подобно talea в изоритмических моте тах, остается неизменным.
В средневековой секвенции « Stabat Mater », положенной в ос нову одноименного мотета Жоскена Депре, мы тоже находим по добную трансформацию григорианского хорала. Начальная фраза при повторении звучит в ракоходе (такт 21), а затем в обраще нии (такт 43) . п ример 7а.
Этот пример приводится в «Полифонии» Т.Мюллера под № 29а (92,49). Мелодия секвенции, заимствованная К.Шимановским для кантаты « Stabat Mater », выглядит несколько иначе, но и ракоход, и инверсия участвуют в варьировании мотивов. Пример 7 б.
История музыкального ракохода насчитывает уже семь столе тий, и поэтому возникает потребность в более пристальном рассмотрении процесса зарождения и развития ракоходных форм в европейской музыке. Первым в истории музыкальным палиндро мом считается 14-е рондо французского композитора и поэта XIV века Гийома де Машо. Поэтический текст таковым не является, но в нем зашифровано указание на способ исполнения: «Мой ко нец — моё начало, моё начало — мой конец».
Исследователи неоднократно обращались к этому уникальному творению. Нотный пример, описание нотного текста и струк туры рондо содержится в очерке Ю.Холопова (148,136-139), а до полнительные сведения -в главе «Полифония Машо» Й.Хоминс- кого (153. 365-366) и дипломной работе М.Сапонова (120). Й.Хо-минский относит ракоход к утонченным и изысканным приемам, он отмечает существующую в рондо «взаимосвязь между текстом и структурой произведения, хотя этот чисто конкретный текст не имеет ничего общего с лирикой». По его мнению, всё произведение представляет «лишь техническую операцию эксперименталь ного характера» (153, 365), Рондо трёхголосно. Композитор со вместил в нём признаки ракоходного контрапункта и канона: пара верхних голосов — ракоходный канон — образуют с контратенором ракоходный контрапункт. Если схематически обозначить стрел ками обе ракоходные формы, то они будут выглядеть следующим образом:
Используя аналогию с вертикально-подвижным контрапунктом, ракоходный канон можно назвать сочетанием первоначального и производного соединений ракоходного контрапункта, где голоса или партии поменялись местами: верхний стал нижним, а нижний — верхним, или первый — вторым, а второй — первым. Бла годаря такой технологии двухголосный ракоходный канон, в от личие от ракоходного контарпункта, можно записать одной стро кой. В рондо Г. де Машо автограф состоит из 40 тактов двухголосного канона, зашифрованного в виде одноголосной мелоди- ческой линии и 20 тактов нижнего, то есть половины ракоходной линии до точки её возвращения. Вероятно, поэтому Г.Риз назвал это произведение «музыкально-поэтической загадкой» (209, 350). Для музыкантов эпохи Г. де Машо этой записи, в сочетании с ука зующей первой строкой стиха «Мой конец — моё начало. » было достаточно для правильного чтения музыкального текста и его исполнения, В наше время подобные ноты нуждаются в специаль ной расшифровке, которая приведена в статье Ю.Холопова (148, 136-138 . Пример 8.
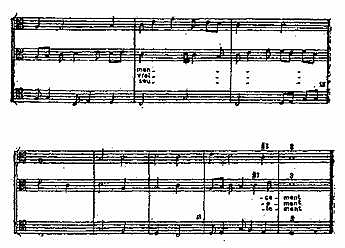
Следует отметить, что не всегда такие реконструкции старых нотных образцов однозначно совпадают. Случаются в резуль тате и совершенно различные варианты одного и того же оригинала, как например, датируемой тоже XIV веком анонимной шас « Talent ma pris ». Г.Риз (209, 336) и Й.Хоминский (153, 372) приводят в своих исследованиях её двухголосную ракоходную расшифровку, практически идентичную, тогда как в Новой Ок сфордской истории музыки она трёхголосна. Й.Хоминский спе циально оговаривает, что этот пример не является ракоходным каноном, так как голоса вступают не одновременно. Постара емся уточнить заключение Й.Хоминского. Шас действительно представляет собой очень интересный образец композиторско го письма, совмещающий в себе имитационную, ракоходную и гокетную техники. Всё произведение можно определить как двух голосный канон в унисон, где второй голос точно воспроизводит первый. В то же время каждая линия состоит из прямого и ракоходного вариантов.
Вопреки утверждению Й.Хоминского, ракоходный канон здесь всё-таки есть, он составляет лишь фрагмент произведения — его центральный раздел. Помимо этого классического палиндрома в шас использован и «рассредоточенный» палиндром — двухголос-ный ракоходный канон, первоначальное и производное соедине ния которого сопоставляются на расстоянии:
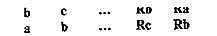
Элементы техники гокета, возникающие в шас как звукоизоб- разителъных эффект подражания кукушке, тоже имеют прямой и ракоходный вид:
В Новой Оксфордской истории музыки предлагается совершен но иной вариант расшифровки этой шас, где она предстаёт как обычный прямой трёхголосный канон:
В комментарии к нотному примеру, говорится, что это «бли жайший французский двойник английского Летнего канона» (218, 136). Ссылка именно на этот образец, представляющий собой мно гоголосный прямой канон, указывает на то, что в шас ракоходное движение линий исключается исследователем изначально.
Существование двух равноправных, но в корне различных вариантов расшифровки означает, что оригинал (как у Г. де Машо) был выписан автором лишь частично в виде одноголосной линии. Пример 9.
Возможно, до наших дней не сохранились знаки, объясняющие исполнителям как строить форму. Следовательно, в шас были заложены несколько вариантов её реализации: простой — виде трёх голосного прямого канона, и более сложный — в виде имитацион- но-ракоходной формы. Однако намёк на возммможность возврат ного движения всё же зашифрован в структуре самой темы шас. Рисунок её линии строго симметричен, две половины темы зер кальны и совмещают в себе инверсию и ракоход.
Ещё один показательный пример претворения в музыке рако ходного принцип а- анонимное рондо « Avertissiez vostre doulx euil ». Его подробно рассматривает Ю.Холопов, цитируя надпись, рег-
ламентирующую исполнение тенора, и саму табулатуру, и её трёх-лосную расшифровку. Нас это произведение интересует в качестве одного из ранних образцов применения ракоходной инверсии — второе проведение тенора (см. нотный пример в статье (148,143)). Она выступаете виде самостоятельной формы варьирования темы, ракоход возникает позже, как её производное , а не наоборот.
В этом примере предположительно впервые в истории музыки присутствуют все четыре симметричных формы трансформации мелодической линии. Такой вид варьирования тенора, когда инвер сия, ракоход, ракоходная инверсия проводятся только в одной ли нии, Л.Файнингер в своей классификации относит к линейному, или линеарному канону. В книге Н.Симаковой «Вокальные жанры эпо хи Возрождения» разъясняет это понятие: «Он предполагает одно линейную имитацию, то есть проведение в одном голосе (чаще в теноре) одних и тех же мелодических построений согласно предло женному условию» (122,63). По такому же принципу, но только на уровне менее масштабного музыкального фрагмента- мотива, стро ится секвенция « Stabat Mater » (см. пример 7 б).
Аналогичный приведённому выше технический приём лег в основу трёхголосного мотета Дж .Д анстейбла « Veni , sancte spiritus » («Приди, дух святой»). Н.Симакова приводит надпись-канон, регламентирующую порядок исполнения тенора: «и поется в первый раз прямо, во второй — обращение, в третий — в возвратном дви жении» (122, 63). Как видно из надписи, по сравнению с предыдущим рондо в нём отсутствует один из четырёх вариантов тенора — р акоходная инверсия. Нотный текст этого произведения помещён в приложении к книге Н.Симаковой под № 27 (122,235-238).
Суммируя скупые сведения и факты о начальном этапе возник новения и развития ракоходного движения в музыке ХШ-Х IV ве ков, необходимо прежде всего уточнить некоторые утвердившие ся в музыковедении положения.
Следует сделать вывод о том, что честь открытия ракоходного принципа в музыке безусловно принадлежит французской компо зиторской школе Х III -Х IV веков. Практически все анализируемые примеры, в которых встречается ракоход, и авторские, и аноним ные, — написаны на французские тексты (за единственным исклю чением латинского у англичанина Дж .Д анстейбла), что тоже сви детельствует о французском приоритете. Н.Симакова, опираясь на мнение Г.Бесселера (по поводу так называемой первой нидер ландской школы) отмечает французскую ориентацию бургундской школы Дюфаи (122, 221). Интересно, что и Г.Риз свидетель-
ствует французское влияние только в тех произведениях, где встречается ракоход (210, 30).
В энциклопедиях на разных языках открытие инверсии приписывают Й.Окегему, жившему в XV веке, тогда как, учитывая син кретизм инверсии и ракохода, датировать это событие надо по меньшей мере двумя веками ранее.
В ХШ-Х IV веках был сформирован практически полный арсе нал ракоходной техники: одноголосный линеарный ракоход, ра-коходный канон и ракоходный контрапункт.
Источник