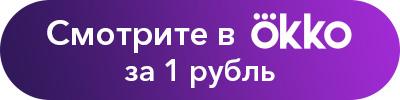Неоконченная пьеса для механического пианино (1977)
Регистрация >>
В голосовании могут принимать участие только зарегистрированные посетители сайта.
Если вы уже зарегистрированы — Войдите.
Вы хотите зарегистрироваться?
информация о фильме
последнее обновление информации: 12.05.21
1977 год — МКФ в Картахене (Спец. приз жюри — Александр Калягин)
1977 год — МКФ в Сан-Себастьяне (Приз «Большая золотая раковина» — Никита Михалков)
1978 год — МКФ авторского кино в Белграде (Гран-при Союза художников кино и телевидения Югославии — Никита Михалков)
1978 год — МКФ в Чикаго (Премия «Золотой Хьюго» — Никита Михалков)
1978 год — Премия «»Давид» Донателло» (Никита Михалков)
Источник
Моё кино / CinEmotions
«Я часто замечал, что кинозрители испытывают чувство только что проснувшегося человека. Они были во власти удивительных явлений. Они жадно следили за развитием событий, их влёк непреодолимый поток образов. Искусство, которое может увести мысли так далеко за пределы обычного, — незаурядное искусство». Рене Клер, «Размышления о киноискусстве», 1958
Friday, 11 January 2008
«Ничего и никогда не бывает потом»: Неоконченная пьеса для механического пианино (1977)/ Unfinished Piece for the Player Piano
Сценарий написан Александром Адабашьяном и Никитой Михалковым по пьесе Чехова «Платонов», а также по мотивам чеховских рассказов «Безотцовщина», «В усадьбе», «Учитель словесности», «Три года», «Моя жизнь».
Роскошные пейзажи русской Средней полосы, река, поле. Далее в кадре — усадьба и действующие лица: доктор Николай Иванович Трилецкий (Никита Михалков), Анна Петровна Войницева (Антонина Шуранова) и слуга Яков (Сергей Никоненко). Ожидание гостей, которые должны собраться в усадьбе Войницевой. Неторопливое повествование не предвещает никаких неожиданностей. Летний солнечный день. Жизнь течет тихо и неторопливо, люди пребывают в состоянии благодушной лени и спокойствия.
В саду накрыт стол, доктор Трилецкий играет в шахматы с Войницевой.
Неприметный пока Герасим Кузьмич Петрин (Анатолий Ромашин) сидит в густой траве — видно лишь его кепку да газету, из которой он время от времени вычитывает сенсационные новости вроде обнаружения в Сызрани голубоглазой вороны. Он несколько отстранен и, кажется, не стремится веселиться с прибывающими гостями.
Петрин – не из дворян, а из так называемых “кухаркиных детей”. Был даже Декрет о кухаркиных детях, согласно которому они не имели права учиться. Под этот декрет попал и Корней Чуковский – в Англии ему присудили ученую степень, а в России он не смог даже закончить гимназию. Герасиму Кузьмичу повезло больше: он отличный делец, богат и всем нужен. Усадьба Войницевка принадлежит, по сути, ему («Вот и керосин на мои деньги тоже куплен»), ведь он — главный кредитор. Ему приятно быть здесь, в доме, “к которому его отец подойти боялся, а я сижу, газеты читаю, о погодах разговариваю”.
Дворянин Порфирий Семеныч Глагольев (Николай Пастухов) гигиенист («Бороды бреет мужикам, они у него все с босыми лицами!» — язвит Платонов), косит наравне с мужиками — толстовские идеи не обошли его стороной.
Рядом с Порфирием Семенычем – пасынок Анны Петровны, Серж Войницев (Юрий Богатырёв). Он пребывает в постоянно приподнято-восхищенном настроении. С лица почти не сходит добродушная и глуповатая улыбка.
Он сентиментален и готов расплакаться, глядя на мужика – будущее нашей России. Не может сдержать слез, признаваясь жене: “Вольтер, ты и маман – всё, что мне нужно. Впрочем, еще Глинка”.
На террасе дремлет старик Трилецкий (Павел Кадочников). “Папенька всё время спит, никого не слушает, потому всех и любит”, – говорит о нём его зять Михаил Платонов.
Ждут визита четы Платоновых – Михаила и его жены Сашеньки, сестры доктора Трилецкого, и соседа-помещика Щербука с дочерьми и племянником.
Глазами Трилецкого через подзорную трубу мы видим уголки усадьбы: Яков пытается выловить из пруда потопленный дворянами стул («хуже пейзан,» — бормочет он); по дороге приближаются Платонов (Александр Калягин) с Сашей (Евгения Глушенко).
На пруду — Порфирий Семёнович и жена Сержа, Софья (Елена Соловей). Красивая дама-эмансипе, в юности готовившая себя в Ермоловы. Ныне от актерства в ней остались жеманство и чуть наигранные, преувеличенные эмоции.
Семь лет назад, в юношескую пору грез и мечтаний, она была влюблена в студента Мишу Платонова. А он любил ее. И они могли быть вместе, но “однажды девочка села в поезд и уехала. Перед этим спросила: — Ты будешь ждать меня? – Конечно, – ответил студент”. Каждый вечер он ходил на вокзал встречать девочку. Но она не приехала ни через день, ни через месяц. И не вернулась никогда. Постепенно студент одумался, остепенился и стал обыкновенным «шеловеком». Оставил университет, женился на юной Сашеньке, стал простым школьным учителем, хотя некогда все считали, что его ждет великое будущее.
Снова тот же операторский приём: после разлуки Платонов впервые увидел Софью через подзорную трубу; на его лице — буря эмоций. Встречу с Софьей растерянный и злой на себя и на неё (за изумление: «Вы учитель?! Но почему же не больше. «) Платонов превращает в фарс:
«Вы считаете, мы тут опустились? Ничуть не бывало. Жена моя, Сашенька — гражданский долг, размножаемся. Имею сына — наследника идеи. Средств нет — приходится идеи наследовать», — ёрничет он. Затем ему приходится отшучиваться, чтобы разрядить обстановку — все оцепенели в замешательстве, не зная, как воспринимать эту исповедь.
Вопреки аннотациям к фильму, далеко не все «герои фильма-драмы осознают никчемность, бесцельность своего существования; мучительно переживают свою несостоятельность, не в силах что-либо изменить. ”
Петрин собою вполне доволен. Щербуку (Олег Табаков) для счастья достаточно чувствовать себя «представителем белой кости». Анну Петровну заботит лишь то, что её любовник Платонов, — «шутник Миша» — позабыл о ней. Запоминается сцена их объяснения в гамаке — оператор не показывает нам лиц, мы следим за интонациями: «И потом, я хоть немножечко, да женат. «
Порфирий Семеныч богат и может позволить себе внедрять в своем поместье «прогрессивные идеи». Правда, у него печаль: безответная любовь к Войницевой, — точнее, в образ, который сам себе создал. Старый романтик, который не грешит потому, что “грешить уже не получается”. Он ненавидит Платонова, подозревая о его связи с Войницевой, но собою вполне доволен.
Сержель готовит себя к неведомой «новой жизни», — подготовка и составляет для него её смысл, поскольку он слишком ленив, труслив и мелок, чтобы действовать («Почему ты выбрала этого пигмея?!» — негодует Платонов). У Софьи, кроме кокетства, передовых идей и пустой болтовни о «жизни чистой как родник», о «работе до пота, до изнеможения», не осталось ничего. Разве что муж, “погрязший в безделье и долгах”.
Доктор Трилецкий ненавидит свою скучную жизнь и работу, где все “мысли — о болезнях, холере и поносе”, где внезапные вызовы к больным, плохие лошади и отвратительные дороги. Но больше, чем ему, сочувствуешь просителю Горохову («Да ничего вам не приятно. Мне и самому неприятно, что я Горохов»): как о милости просит он врача о помощи. Но Трилецкий занят: веселье в разгаре, танцы, «фанты», а тут какой-то Горохов с сапогами в руках, «чтобы пол не замарать».
Единственный, кто видит всех насквозь и страдает от собственной несостоятельности, это Платонов. Подобно Чацкому, он «раздаёт оплеухи» – резко и чуть нелепо, – всем собравшимся. Он задыхается среди лжи, лени, бессмысленных рассуждений и бездарного времяпрепровождения. И осознаёт, что является частью этого. Старается дистанциироваться от остальных, оправдаться, что “не стал чем-то бóльшим”, обвиняя окружающих:
“Мне 35 лет! А я ничего в вашей проклятой жизни не сделал!… Лермонтов восемь лет как лежал в могиле! Наполеон был генералом! Я ничтожество по вашей милости!”
Но Платонов неглуп и честен с собой, ему достает проницательности понять, что на самом деле он вовсе не жертва обстоятельств. Во всем виновен он сам. Но в чем его вина? В том, что всё сложилось, как сложилось? В пассивном следовании «по течению»? В том, что не стал великим?
Ведь разве в этом счастье? Его можно обрести в очень простом и обыденном.
Сильнейшая сцена молитвы Платонова в поле: “Господи, Господи. Вот счастье: ехать в поезде, пить чай и говорить со случайным попутчиком о хорошем. Оставлять позади всю эту череду пустых лет и поступков. «
Но это настроение минуты. Едва ли мятущаяся душа Платонова была бы счастлива. Он чует невозможность счастья и той новой жизни, о которой мечтается. «Всех перебудил! Всем мешаю!» В порыве отчаяния он несется к обрыву, прыгает. И оказывается по колено в воде. Трагедия превратилась в фарс.
Но настроение тут же меняется. К Платонову бежит жена. Несколько минут назад он кричал ей: “И ты здесь, хранительница очага, в котором давно ничего не тлеет! Как я ненавижу тебя с твоими борщами и канарейками! Тебе, как и мне, просто деваться некуда!”
А она мчится за ним, чтобы удержать, спасти:
“Мишенька, Мишенька! Слава Богу, ты жив. Значит, и я жива. Я так люблю тебя. Я всё могу стерпеть, всё могу вынести, если ты со мной. Потому что я знаю, что никто не сможет любить тебя так, как я…”
И тут же слова Софьи из “Дяди Вани”:
“Мы отдохнем. Мы увидим жизнь новую, светлую. Мы встретим хороших людей, которые поймут и простят нас. Мы будем жить долго и счастливо. Только надо любить, Мишенька. Надо любить”.
Сколько раз смотрю фильм — этот монолог в финале переворачивает душу, трогает до слёз. Столько искренности, любви и простоты.
Один из любимых моих фильмов. Один из лучших фильмов режиссера Никиты Михалкова и актера Александра Калягина. Потрясающая работа оператора Павла Лебешева. Незабываемое музыкальное сопровождение.
Una furtiva lagrima
Negli occhi suoi spunto:
Quelle festose giovani
Invidiar sembro.
Che piu cercando io vo?
Che piu cercando io vo?
M’ama! Sì, m’ama, lo vedo, lo vedo.
Un solo instante i palpiti
Del suo bel cor sentir!
I miei sospir, confondere
Per poco a’ suoi sospir!
I palpiti, i palpiti sentir,
Confondere i miei coi suoi sospir
Cielo, si puo morir!
Di piu non chiedo, non chiedo.
Ah! Cielo, si puo, si puo morir,
Di piu non chiedo, non chiedo.
Si puo morir, si puo morir d’amor.
В фильме соблюдены чеховские традиции: серьезное оборачивается смешным, возвышенное — пошлым. Неудавшаяся попытка самоубийства главного героя венчает действие, оставляя иллюзию временного примирения с жизнью. Чтобы выбраться из омута, в который сами себя загнали, персонажи должны или много работать, или искренне верить. И то, и другое означает изменение сознания, образа жизни, определенные самоограничения. А это трудно и хлопотно, и чем дальше, тем невозможней. Остается одно — продолжать жить механической жизнью в назидание зрителю, способному еще испытывать ужас от сходства героев «Неоконченной пьесы» с самим собой.
**
Александр Калягин о работе над фильмом:
Из дневника:
«Сегодня 10 сентября. В театре идут спектакли, репетиции, а я мотаюсь по маршруту Москва — Пущино. Не высыпаюсь, устаю, а настроение хорошее. Особенно когда прихожу на съемочную площадку. Веселюсь, дурачусь, смешу других, сам себя завожу. Не даю себе заземлиться и киснуть. Как можно веселее! Только так надо!»
Сейчас, перелистывая тетрадь, вижу сплошные вопросительные знаки. Что с ним, с Платоновым, стряслось? Может ли он покончить с собой? Из-за чего? Из-за кого? Кого он любит? Поступок ли это? Естественнее и даже разумнее оставить их для себя вопросами.
Раскручивая все назад, я понимаю, как важно во время работы над ролью задавать себе вопросы. Самые разные: и логичные, и нелогичные, и совершенно сторонние. И совсем необязательно все вопросы найти какой-то однозначный ответ.
Роль Платонова стала «переломной». Когда я посмотрел черновой вариант фильма, не узнал сам себя. Я испугался. Я понял, что провалил роль. Это был такой удар, что плакать хотелось. Я так привык к своим штучкам-дрючкам, к своим штампам и вдруг смотрю — на экране другой человек. Это не Калягин, это не я. Я не привык к тому, что я так двигаюсь, нет моих привычных ужимочек, привычных красок. Какой-то другой актер. И ощущение ужаса провала. Меня тогда Никита выручил. Он мне тихо-тихо на ухо: «Запомни, ты сыграл свою лучшую роль!»
И все дальнейшее определилось Платоновым. Даже Эфрос открыл меня как актера именно в «Механическом пианино». Вот что он писал в своей книге: «Попадались фотографии Калягина в „Механическом пианино“, и лицо его казалось все более и более привлекательным. И я издали проникался к нему все большим доверием. Но это у него произошел какой-то скачок, а не у меня. Ведь у него был когда-то совсем другой облик, другое лицо. Так мне кажется. Он совершенно преобразился за несколько лет. В нем проступило то, что где-то таилось, но было совсем незаметно».
Мы мало сейчас общаемся с Никитой Михалковым, и встречи получаются довольно официальные. Но та наша юность, которая нас сблизила и в чем-то породнила, дала успех, та наша юность помнится пронзительно. Мы встретились в какой-то правильный момент, начинающими, нащупывающими свой путь. Мы пытались встать на ноги, понять свои возможности и соотнести их со своими амбициями. Михалков — жесткий режиссер, который настаивает, чтобы делали так, как он видит, но при этом он обожает актеров, с которыми работает, а это не каждому дано. Ведь актеру нужно, чтобы его любили. Актер — существо нервное, самолюбивое, ранимое, даже если делает что-то неверно. Как сказал один философ, актер — это не профессия, это болезнь. Приглашая актера на роль, Никита Михалков в него влюбляется, форменным образом влюбляется. Он понимает твои нервы, чувствует тебя, твои слабые и сильные стороны и самое, может быть, главное — твои потенциальные возможности, то, что заложено, но пока не выражено.
Великий случай, великая смелость Никиты Михалкова, что я играл Платонова. Ведь если бы сорвался, все бы обвинили режиссера: не надо было брать на Платонова характерного артиста!
На «Рабе любви» практически сложился кинематограф Михалкова, сформировалась команда: Паша Лебешев, Саша Адабашьян, Лена Соловей, Юра Богатырев, Коля Пастухов — талантливые, замечательные люди, которые работали с ним, обожали его. Всё это потом перенеслось в «Неоконченную пьесу для механического пианино»… Недаром мысль о постановке Чехова пришла в голову Михалкову и Адабашьяну во время съемок «Рабы любви». Они не знали, что именно выбрать, но говорили о потребности поставить именно Чехова. В «Рабе любви», мне кажется, ощутимо это чеховское настроение: растворенность персонажей в природе, плавность перетекания настроений, сложная вязь взаимоотношений персонажей, кружево интонаций. «Раба любви» была прологом к «Неоконченной пьесе», и своего Платонова я считаю главной ролью, сыгранной у Михалкова.
В предыдущих фильмах мы как-то «открывали» друг друга, а в этом фильме работали, уже зная друг друга, но еще не надоев, еще не устав, еще удивляя друг друга неожиданностями. Михалков — отличный педагог, а это редкое и драгоценное сочетание — режиссер и педагог в одном человеке.
Предложив мне роль Платонова в «Неоконченной пьесе для механического пианино», он обозначил на моей фотографии контур: вот так надо похудеть для этой роли. И я похудел почти на 20 килограммов, что показывает, как я относился к этой роли. Когда мне прислали сценарий, он меня поразил, прежде всего, как замечательное литературное произведение. Я даже решил, что, если меня не утвердят на роль Платонова, буду читать его в своих программах. А потом чем больше вчитывался, тем больше «заболевал» ролью. Когда услышал требование «похудеть» — для меня страшное, — сначала закапризничал, уперся. Но Михалков жестко сказал: «Надо, не хочешь — будем пробовать Мягкова». Так что деваться было некуда.
Это «похудение» вовсе не было каким-то трюком вроде переодеваний тетки Чарлея. Худые руки, поджарая фигура изменили пластику: походка, жесты — все стало заостреннее и резче. А вслед за этим стали происходить изменения внутренние. Я даже испугался, когда заметил, что в моем характере появилась не свойственная мне раньше жесткость. Я стал другим, а может, просто проступило что-то ранее незаметное.
У Никиты всегда была заветная мечта, чтобы актеры еще до съемок, во время подготовительного периода, жили вместе, много и долго репетировали. После чего за месяц съемочного периода вся картина снимается, потому что все готовы.
На съемках «Неоконченной пьесы» мы все жили в одной гостинице в Пущине, на Оке. Никита всех заранее предупредил, что мы должны жить там, никаких прилетов и отлетов, параллельных съемок и срочных дел. Мы должны были полностью сосредоточиться на нашем фильме — такой театральный способ существования в условиях съемок. Мы жили сообща, бок о бок, два месяца подряд, с утра до вечера все вместе. Обычно съемочная группа: прилет-отлет. «Где тут моя страница? Что снимаем? Двадцатую? А девятнадцатую отсняли?» На этих съемках все другое. Всё делаем вместе: чай пьем, читаем, говорим. Это были бесконечные разговоры — вечерами, ночами, когда гуляли. Мы стали друг другу родными: вместе праздновали дни рождения, вместе играли в футбол и дурачились.
Чтобы я казался выше ростом в сцене с генеральшей, которую играла Тоня Шуранова, на съемочной площадке была положена такая дорожка из плиток, по которой мог ходить только Платонов. Адабашьян меня звал Марлоном Брандо, на каждой плитке было подписано: Марлон, Марлон. Ирония, юмор, самоирония — это было, действительно, что-то такое родное, мы в этом купались и ощущали себя не то чтобы командой, но «одной компанией».
Когда я сейчас думаю об этом фильме, самым важным мне кажется «совпадение элементов». Чтобы произошла ядерная реакция, разнозаряженные частицы должны прийти в какое-то соприкосновение друг с другом. На «Неоконченной пьесе для механического пианино» всё сошлось. Все участники были в нужной форме: физической, эмоциональной, интеллектуальной. Я не имею в виду, что мы все были близки к идеалу. Но… мы подходили именно для этого материала. Мы знали о Чехове, об этой пьесе и об этой эпохе ровно столько, сколько надо, и не знали ровно столько, сколько нужно. Интуиция сколько работала, столько и не работала.
Была идеальная группа: операторов, художников, сценаристов. Всё вдруг сошлось: само место Пущино, компания людей, форма, в которой находятся эти люди. И то, что главным исполнителям — мне, Юре Богатыреву, Тоне Шурановой — было по 30 — 35 лет, то есть наш возраст чисто биологически совпадал с возрастом чеховских героев.
Мы проживали тот самый промежуток жизни, о котором писал Чехов. 30 — 35 лет — критический возраст, особенно для мужчины. У тебя уже есть семья, есть ответственность за кого-то, ты уже вкусил первого успеха, ты уже встретил какого-то учителя, научился чему-то, ты уже к этой жизни относишься не потребительски, ты чуть-чуть научился терпению, но еще не определился, не проявился окончательно. Мы понимали своих героев не умозрительно и даже не интуицией, а нутром, чисто биологически.
Полжизни унес мой Платонов. Полжизни… Платонов мой меня обжег. И мимо бесследно для меня не пройдет. Может, оттого, что он тоже тот человек, который боится «быть у воды»? Боится остаться в кордебалете. Помните: «Мне 35 лет, а я ни черта в вашей жизни не сделал!»? Я это мог крикнуть и в двадцать, и в двадцать пять, и в тридцать пять. Мне всегда было страшно подвести людей, которые в меня верили.
Я очень наглядно себя представлял, как это происходит. Студентами мы бегали смотреть спектакли в Вахтанговский театр, а потом обсуждали увиденное с педагогами: как можно было взять этого актера! Он же бездарно играет! А они нам рассказывали, что, когда его брали, он считался просто «№ 1». А вот в той актрисе, на которую сейчас смотреть тошно, видели чуть ли не будущую Стрепетову… То есть «способности», «талант» не спасали. Мельтешение будней засасывало и лишало всего: сил, таланта, энергии. Вот этот крик, что «я ни черта не сделал», всегда был во мне. Беременность этим воплем. Не дай Бог, жизнь тебя подомнет, засосет, и наступят чеховские серые будни, которые топят любые надежды, любые стремления. Ужас серых будней, когда просыпаться не хочется, когда мы солнцу радуемся, как будто выиграли билеты в вечность…
Почему мне кажется, что эта картина — особая и отдельная? Дело не в мастерстве (хотя работали мастера), не в удаче, но именно в каком-то биологическом совпадении с материалом. А это самое редкое совпадение. Когда его нет, надо что-то придумывать, чем-то прикрывать: наблюдательностью, обаянием и т. д. А когда оно есть — это счастье.
Можно сказать по-иному: мы все были в идеальной форме для этого конкретного фильма. Идеальной — не в смысле лучшей, а самой подходящей. В какой-то детской книжке, чтобы получить приз, надо было весить 7 килограммов 500 граммов. Не больше, не меньше. Вот мы все «весили», сколько нужно. Все — 7 килограммов и 500 граммов. Даже Кадочников, легенда советского кино. Он до этого долго не снимался, его практически забыли. И вдруг Никита его вызвал. Кадочников жил с нами в гостинице, его все любили, вся труппа к нему относилась именно как к легенде советского кино. Наблюдали за ним на съемочной площадке и вне ее. Потрясающим было то, что он практически так же нервничал, как и мы, начинающие. И тоже был в чудесной форме.
Я, признаться, никогда не мог понять расхожих выражений: «Это его роль», «Это не его роль», «Это его роль, но он ее провалил» или «Не его роль, но сыграл замечательно». Белиберда какая-то. Мне кажется, правильнее говорить о «форме» актера. Как говорят о форме спортсмена. Он подошел к соревнованиям на пике формы и оптимально пробежал дистанцию. Или «взял» вес. Актер может или не может сыграть роль в зависимости от формы, в которой он находится: физической, интеллектуальной, эмоциональной. Почему режиссер — это еще и тренер? Он может понять «форму» актера, может помочь ее поддержать или даже привести актера в нужную форму.
Во время съемок «Неоконченной пьесы для механического пианино» мы много играли в футбол на лужайке перед гостиницей. Мы так заводились, что забывали о том, что впереди съемка. Вот грязный мяч летит к тебе, хотя ты понимаешь, что впереди съемки, крупные планы и надо бы поберечь лицо, — все равно бьешь головой. Будь что будет. Не пропускать же гол. Или когда мы с Никитой играем в разных командах. Напряженный момент: я нападаю, он защищает, он — нападающий, я — защитник. А Никита — человек жесткий и проигрывать не любит и не умеет. И когда мы сталкиваемся в борьбе за мяч, действительно сталкиваемся, он со всего размаху бьет меня по ногам. Я корчусь и ему: «Никита, ты что, мне же больно, мне же сниматься завтра. Ты что, я же ходить не смогу…» — «Ой, я забыл о съемках!» И через какое-то время все повторяется. Представляете, какой завод! Ведь если бы я вылетел со сломанной ногой на месяц-полтора, все бы сорвалось.. Но был мальчишеский азарт, он тоже входил в роль.
А атмосфера Пущино! Грязь, осень, дождь. И взрывчатая смесь юмора, почти до цинизма, и тут же рядом ощущение и присутствие чего-то высокого, заветного, святого. Счастливое состояние предчувствия: удачи, судьбы, открытия. Чего-то, что случится. Все это относилось не только к картине, но и к жизни тоже. Уверен, что не только я, но все мы, там бывшие, тоскуем по тому времени. По этому недостижимому, прошедшему, невозвратному состоянию, когда внутри звенела какая-то натянутая струна.
Там, на съемках, я впервые услышал о Маркесе, который стал моим любимым, самым необходимым писателем. Мы закончили репетировать сцену в поместье… Стоим внизу с Адабашьяном, а наверху — Сережа Никоненко с книгой: «Слушайте, потрясающий текст», — и он улыбается, читая что-то из книги Маркеса. Я слушаю, а сам думаю: серьезно он или издевается? Что за бред? Словесные навороты? Что это за писатель? Он говорит: «Маркес». — «Хороший?» — «По-моему, очень». И вот это «по-моему, очень» и ощущение бреда, наворота… Двадцать лет прошло, а помню, кто как стоял, выражения лиц, все интонации, собственную сумятицу…
Актерская профессия, она — «множительная» профессия, чем больше множишь, тем результат сильнее. Жизнь множишь на роль, то есть на текст, на автора. Множь на свой опыт, множь дальше на опыт друзей, на опыт того, что ты увидел вчера, что ты поел, как ты себя чувствуешь, что ты читаешь… Чем больше этого множительного, тем сильнее результат. Если ты по-настоящему хочешь перевоплотиться, для этого надо много-много-много множить. И попробовать самые полярные состояния: гнева и радости, усталости и взрыва. Но в то же время надо держать в знаменателе роль, режиссера, свой опыт, и все это войдет в создаваемый тобою образ, неведомыми путями, но войдет.
Мне кажется, что в «Неоконченную пьесу» вошло ощущение какой-то полноты бытия, которое было в нас, снимавших этот фильм. Он и тяжелый, и трагический, и безысходный, но в нем есть полнота и острота чувственного восприятия жизни, этого места, этого поместья, этих деревьев. Мы шалили и хулиганили, но это шло, прежде всего, от ощущения полноты, радости, собственных сил. И интуитивно мы пользовались в этой работе техникой переключения: с веселого, озорного общения с партнерами — на драматическую сцену. Переключение. Это не бездумное в работе. Наоборот — сознательное. Моментально переключиться с одного состояния на другое…
Михалков предложил нам замечательный способ репетиций. Очень часто мы проигрывали ту или иную сцену на татарском языке, на узбекском… Звукоподражание достигало той степени, когда посторонний человек был бы твердо уверен, что слышит чужой язык, на котором мы свободно разговариваем. На деле это была тарабарщина, которая давала возможность снять «зажим» перед текстом, прожить сцену вне и помимо слов, вскрывая ее ритм, ее смысловое ядро… Ну, и помимо всего прочего, это было необыкновенно смешно. А смеялись мы много, часто и охотно.


Мы не упускали буквально ни одного случая, чтобы не «отсмеять» его. Помню, как долго снимали сцену объяснения Платонова и Софьи. Уже была осень, мы стояли у дерева. Мой герой вопрошал: «Зачем вы любите этого пигмея, Софья?! Вы же такая…» И в это время появлялся Богатырев со своим: «Софи, я принес вашу тальму». И Софья ломала руки: «Ах, как пошло!» Черно-белое изображение. Она ломает руки. Надо снимать следующий дубль. И тут кто-то: «Ах, как пошло. Ах, как пошло. Ах, как пошло. » И всё, Леночка Соловей сниматься не может. А потом собирается, продолжаем, но этот момент смеховой остановки каким-то образом входит в сцену, или это я его там угадываю.
Из дневника:
«В ночь с 12 на 13 сентября… До часу ночи в номере у Михалкова. Обговариваем сцену молитвы, в 4 часа ночи — грим. В 5.30 поле у деревни Зайцево. Дерево. В 7 утра уезжаем снимать сцену фейерверка — Софья, Войницев, Платонов… В 13 часов — усадьба. Последний день съемок». Через два дня после съемок я улетел в Болгарию со МХАТом. Вошел в свой номер в гостинице, принял ванну и рухнул в постель. И — такого со мной никогда не было — проспал больше суток, как будто провалился. Вот так далась мне эта работа.
**
Никита Михалков:
« . Сумасшедшее удовольствие была эта работа — то, как мы искали и находили образ Войницева. Мы понимали, что Серж — это такое большое, трогательное, глупое, наивное, слабое и в то же время очень искреннее и честное существо — такой Пьер Безухов, только глупый.
Но глупость тоже бывает разная. Это была не глупость, а скорее такая звенящая ограниченность. Труднее всего играть это. Потому что Серж говорит простые банальные вещи. И в общем, людям нормальным эти мысли могут показаться естественными: «Вольтер, маман и ты. впрочем, еще и Глинка. » Все это никак не резало уха обывателя. Человек любит Вольтера, маман, свою жену и Глинку — чего уж тут поделаешь? Самое сложное — так сыграть, чтобы это стало смешным. И Юра делал это ювелирно, на каких-то невероятных полутонах. 

Его образ родился от походки героя — это Юра предложил сам. У него было плоскостопие, поэтому ему специально делали очень большие ботинки: размер был гигантский — сорок восьмой или сорок девятый. Ему изготовили ботинки еще больше, и он поджимал пальцы на ногах, поэтому его походка становилась такая. шлепающая. Он шел, как ходят плоскостопые люди, — с пятки, с развернутыми носками и шлепая. И как только он пошел этой походкой — все сразу стало ясно. Все слилось в один образ: и шляпа с высокой тульей, надеваемая прямо, и огромные руки, и трость, и косоворотка — все сразу заработало».
Из книги Натальи Бобровой «Юрий Богатырёв: не такой, как все» (Издательство «Центрполиграф», 2001 г.), источник
Я помню, была такая картина «Неоконченная пьеса для механического пианино», вся история которой — это цепь случайностей, как она состоялась, как она делалась.
В общем, когда мы запустились, и когда все это началось, помню, что Павел Тимофеевич Лебешев, оператор, ходил и всё время ныл: что-то очень хорошо всё идет, ой, плохо всё кончится! Все на него орали: Паша, перестань ныть, слава Богу, что так.
И точно. Буквально за несколько дней до начала съемок сначала сломала ногу Гурченко Людмила Марковна, которая должна была там сниматься. А потом, уже едучи к нам из Праги с одних съемок на другие, разбился в машине, очень сильно повредил руку Женя Стеблов, который должен был играть ту роль, которую по этому несчастью играл Михалков.
— А кого должна была играть Гурченко?
Генеральшу. И вот все пришлось срочно перекраивать, в последний день, потом еще какие-то были событие. Ну и когда, в общем, мы набрали весь комплект мыслимых и немыслимых всех несчастий, которые полагаются для всякого нормального дела, тогда Лебешев ходил, радостно потирая руки, и говорил: ну, теперь все пойдет! И действительно, все покатилось.
Источник