Нотный архив Бориса Тараканова
опера «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (1879)
Евгений Онегин — лирические сцены в 3 актах, 7 картинах Петра Ильича Чайковского, на либретто Константина Шиловского, по одноимённому роману в стихах А. С. Пушкина. Премьера состоялась 17 (29) марта 1879 года в Малом театре в Москве.
Опера написана на сюжет пушкинского «Евгения Онегина». Созданию оперы предшествовали длительные поиски оперного сюжета. В письме к композитору С. И. Танееву Чайковский писал: «Я ищу интимную, но сильную драму, основанную на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих задеть меня за живое» [2] . Сюжет был подсказан почти случайно певицей Е. А. Лавровской в мае 1877. В письме к брату М. И. Чайковскому композитор подробно описывает этот эпизод:
 | Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: «А что бы взять „Евгения Онегина“»? Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об «Онегине», задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина [3] . |  |
Опера создавалась достаточно быстро, композитор работал над ней в Москве, в Сан-Ремо, а также в Каменке и в Глебове. Либретто ему помогал создавать поэт К. С. Шиловский. 30 января (11 февраля) 1878 опера была вполне завершена, и Чайковский сообщает Н. Г. Рубинштейну: «Я кончил оперу совершенно. Теперь только переписываю либретто и, как только все будет готово, отправлю в Москву» [4] .
С самого начала работы над оперой композитор осознавал ряд трудностей, связанных с приспособлением пушкинского сюжета к оперному жанру. Прежде всего это касалось «несценичности» сюжета, отсутствия типовых для оперы конфликтов и сюжетных поворотов, а также необычным для оперы «современным» сюжетом. Кроме того, смерть одного из главных героев происходит в середине оперы, а не в конце; опера же в целом заканчивается не эффектными событиями и массовой сценой, а диалогом-объяснением двух действующих лиц. Однако это не останавливало композитора, поскольку искренность, живость и поэтичность пушкинских образов ему казалась важнее всех оперных условностей. В ответ на предполагаемую критику он писал:
 | Я не заблуждаюсь, я знаю очень хорошо, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере, но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяют с лихвой все недостатки [5] |  |
 | Пусть опера моя будет несценична, пусть в ней мало действия! Но я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку, потому что меня на это непреодолимо тянет. Я совершенно погружен в сочинение оперы [6] |  |
 | Мне кажется, что она [опера] осуждена на неуспех и на невнимание массы публики. Содержание очень бесхитростно, сценических эффектов никаких, музыка, лишенная блеска и трескучей эффектности… Я… писал «Онегина», не задаваясь никакими посторонними целями. Но вышло так, что «Онегин» на театре не будет интересен. Поэтому те, для которых первое условие оперы — сценическое движение, не будут удовлетворены ею. Те же, которые способны искать в опере музыкального воспроизведения далеких от трагичности, от театральности, обыденных, простых, общечеловеческих чувствований, могут (я надеюсь) остаться довольны моей оперой [7] |  |
Будучи убежденным в том, что публике будет трудно воспринимать это произведение на сцене, Чайковский обратился к П. И. Юргенсону с просьбой издать клавир оперы до её постановки, который действительно вскоре вышел в свет и был очень быстро раскуплен. Композитор писал:
 | Опера эта, мне кажется, скорее будет иметь успех в домах и, пожалуй, на концертных эстрадах, чем на большой сцене… Успех этой оперы должен начаться снизу, а не сверху. То есть не театр сделает её известной публике, а, напротив, публика, мало-помалу познакомившись с нею, может полюбить её, и тогда театр поставит оперу, чтобы удовлетворить потребность публики [8] |  |
Произведение оказалось очень дорого Чайковскому, он вложил в него много душевных сил, и ему жалко было отдавать его на сцену императорских театров.
 | Как опошлится прелестная картинка Пушкина, когда она перенесется на сцену с её рутиной и бестолковыми традициями [9] |  |
Почти сразу к опере пришёл триумфальный успех. Публика была очарована этой оперной интерпретацией пушкинского «романа в стихах» с её выразительнейшей музыкой.
Опера оказалась новым словом для оперного жанра, она утвердила в правах целую жанровую ветвь лирической оперы.
Источник
Партитура оперы — зашифрованные действия и чувства



Что является конкретным материалом для анализа музыкальной драматургии оперы? Партитура, т.е. нотная запись, фиксирующая звучание всех голосов оперного произведения и представляющая как бы «свод» всех его партий — вокальных, хоровых, оркестровых. Система записи, при которой каждой партии отводится отдельный нотоносец и располагаются они в условленном порядке — одна под другой, так, чтобы одинаковые доли такта находились на одной вертикали, облегчает глазу охват целого и создает отчетливое зрительно-слуховое представление о совместном звучании певческих и оркестровых голосов. Действенное воображение режиссера питается в первую очередь впечатлениями, полученными от общения с партитурой: в ней зашифрованы драматургический смысл произведения, его стиль, события, отношения действующих лиц, характеры, эмоции. От расшифровки всего этого зависит первородство образов будущего спектакля, зарождение самостоятельного режиссерского замысла. Следовательно, оперному режиссеру обязательно надо уметь профессионально читать партитуру. Это — главная цель его музыкального образования. Если человек смотрит в партитуру оперы, как слепец, — он дилетант и серьезно говорить о его творчестве на оперной сцене нельзя.
Заранее оговорю, что режиссеру музыкального театра отнюдь не рекомендуется предварительное знакомство с новой для него оперой по либретто, т.е. по тексту, воспринятому вне драматургического и эмоционального преображения его музыкой. Впечатление, сложившееся на основе прочтения либретто, может не соответствовать тому, что заключено в музыкальной драматургии оперы, и образ, возникший в фантазии режиссера, вне связи с партитурой, может впоследствии стать длительной помехой в правильном раскрытии сути замысла композитора. Следует помнить, что либретто или «сценарий» — это чаще всего лишь отправная точка в творческом процессе создания оперы, первый импульс к образному воплощению композитором драматической идеи произведения.
Однако это не значит, что, знакомясь с музыкой оперы по партитуре, текст можно игнорировать. Ведь партитура фиксирует не только звучание вокальных партий, но и реплики действующих лиц, тексты арий, ансамблей, хоров. Именно соотношение текста с вокальной его интерпретацией, с интонацией, характеризующей тот или иной персонаж, можно считать «фокусом» оперного искусства.
Обратим внимание и на ремарки. Совсем не обязательно режиссеру их точно выполнять, но проникнуть в их смысл, в то содержание, которое вкладывал в ремарки композитор, представляя себе поведение героев на сцене, весьма полезно для развития действенной фантазии режиссера. Отметим при этом, что слово, драматургическое указание и певческая или инструментальная интонация должны восприниматься не параллельно, а в комплексе, в единстве музыки и действия, в их взаимовлиянии. Тогда в одной только области оркестровых тембров режиссера ждут замечательные открытия — это драгоценный материал для постановочных решений.
Поэтому лишь в крайнем случае, если партитура временно отсутствует, режиссер может начать знакомство с оперой по клавиру — переложению партитуры для фортепиано. Но он должен знать, что в этом случае его фантазия и уменье анализировать лишаются многих драматургических подсказок. Клавир оперы подобен черно-белой репродукции какого-либо живописного полотна, он дает лишь контуры музыкально-драматургических событий, лишь общее представление о них, лишенное подчас важных деталей, определяющих психологию сцены и характер действий героев. Например, в клавирном переложении оркестровой партии режиссеру может встретиться рисунок, явно напоминающий «звук фанфар». Он может вообразить себе нечто торжественное и помпезное. А в партитуре исполнение «фанфар», оказывается, поручено кларнету, фаготу или еще какому-либо инструменту, тембр которого явно «компрометирует» парадность музыкального рисунка, создавая комический или иронический комментарий к торжественности момента. Множество таких «неожиданностей» встречается в партитурах Н. А. Римского-Корсакова, особенно в его сказочных операх («Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» и др.). Они дают возможность режиссеру оценить отношение автора к событиям.
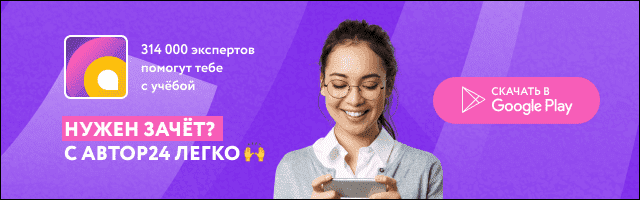
Приведу еще пример. Если, ознакомившись с оркестровым вступлением к опере П. Чайковского «Иоланта» по клавиру, попытаться представить себе возможную его инструментовку, естественно будет предположить, что ведущая роль в этом лирическом оркестровом высказывании, несомненно, принадлежит струнной группе. И как же нас озадачит, а, может быть, на первых порах и разочарует знакомство с партитурой, когда мы узнаем, что вступление оркестровано Чайковским для деревянных духовых. Правда, вдумавшись, мы поймем то, что вначале упустили, а именно — что вступление заключает в себе «зерно» драматического образа героини оперы: лиричность, душевность, порой, казалось бы, даже страстность музыкальной мысли здесь явно «сдерживается» холодностью звучания деревянных духовых, порождая образ скрытых, неосознанных чувств — тайной душевной неудовлетворенности, противоречия между неясным влечением, мечтой и невозможностью их осуществить, проявить. Это — слепота, ставшая темницей для неосознанных стремлений Иоланты. И, думается, режиссер оценит тонкий контраст, внесенный композитором в звучание оркестра, когда вместе с первыми тактами собственно действия вдруг вступают голоса скрипок и арфы. Открывается занавес: перед нами цветущий, радостный мир, — мир зримой красоты, которым окружена Иоланта и которого она не видит, не знает. Зритель интуитивно ощутит значение этой смены инструментальных красок. Режиссеру же почувствовать ее мало, он должен осознать прием композитора и «включить» его в свою режиссерскую концепцию.
Таким образом инструментовка оперы, ее оркестровые краски помогают нам не только глубже проникнуть в смысл сценических действий и событий и ощутить сопутствующую им эмоциональную атмосферу, но дают возможность уловить тончайшие детали в авторской характеристике героев, в психологическом обосновании их чувств и поступков.
Проверьте по многочисленным примерам значение инструментовки для проявления логики чувства и действия в оперном произведении. Вспомните, например, «тему проклятия» во вступлении к «Риголетто»: Верди поручил ее трубе. А если бы он передал ее скрипкам? Или фаготу? Мы реально «услышали» бы иной смысл, иную драматургическую интонацию, иной эмоциональный характер «проклятия»-— этой главной темы оперы. А как часто композитор меняет инструментовку темы в зависимости от той или иной сценической ситуации. Сравните, к примеру, инструментальную окраску вагнеровских лейтмотивов, хотя бы в «Лоэнгрине», в различных драматических обстоятельствах. Порой тембр одного и того же инструмента в контексте со сценическим событием и эмоцией используется композитором (а следовательно, и воспринимается нами) различно. Прислушайтесь к звучанию фагота в четвертой картине «Пиковой дамы» и того же фагота во второй картине «Майской ночи». Ощущаете разницу и то, чем она продиктована?
Бывает и так, что «совпадающая» по звучанию инструментовка каких-либо партий или эпизодов в соотношении с резко отличной сценической ситуацией и сюжетом воспринимается нашим слухом как нечто далекое, несравнимое (сопоставьте, к примеру, начало третьей картины оперы «Майская ночь» и начало сцены «У Василия Блаженного» в «Борисе Годунове»). Значит, режиссеру нельзя оценивать инструментовку оперы вне связи и сопоставления ее со сценическим действием, проявлению которого она служит (Для того, чтобы лучше понять значение, которое имеет для концепции режиссера инструментовка оперы, чрезвычайно полезно сравнить редакции «Бориса Годунова», сделанные Н. Римским-Корсаковым и Д. Шостаковичем с восстановленным оригиналом М. Мусорского.). Значит, и тут не следует забывать о «единстве противоположностей», которое в искусстве оперного театра является сильнейшим средством воздействия на зрителя. Мы воспользовались случаем напомнить здесь об этом потому, что закон этот распространяется и на процесс общения режиссера с партитурой оперы. В ряде случаев снять «противоречия» инструментовки значит обратиться к примитивному штампу кажущегося «единства» музыки и сценического действия. Приведу такой пример: музыка веселого уличного праздника, доносящаяся через окно в комнату умирающей Виолетты («Травиата» Верди), инструментована композитором подчеркнуто элементарно, более того — тривиально. Звуковой образ улицы как бы спорит с хрупкостью облика и борением сложных чувств в душе умирающей женщины. Да, это «спор» физических и душевных состояний, эмоций, мыслей — спор, отражающий суть жестокого столкновения действий и интересов людей, их судеб (Представьте эту уличную песенку в изящном звучании струнного квартета или клавесина, и «спор» окажется перенесенным в иную атмосферу, отразит иную природу «единства противоположностей».), Верди создает здесь жизненно-противоречивый драматургический образ, требующий смелого и точного сценического решения. За каким же «манком» следовать режиссерскому воображению в этой сцене? За праздничным весельем толпы на улице? За состоянием умирающей Виолетты? Нет, смыслом действия является именно столкновение этих противоположностей и их единство.
Так влияет инструментовка на рождение сценического образа. Поэтому еще раз подчеркну— режиссеру необходимо научиться не только читать, но и бегло «переводить» звучание партитуры на язык воображаемых действий. Почему «бегло»? Потому что мысль режиссера при знакомстве с партитурой не должна тормозиться преодолением трудностей, обусловленных слабым знанием теории музыки, оркестровки, гармонии.
Чтение партитуры надо прежде всего освоить как многоохватный процесс. Темп, ритм, метр, тональные соотношения, основные темы (тут уж не обойтись без навыков сольфеджирования), особенности оркестровки и строения наиболее значительных эпизодов партитуры, общий ее характер — все это должно восприниматься в единстве, в комплексе. Части, детали, разделы не должны «читаться» по слогам, а в том временном соотношении, которое запрограммировано композитором. Лишь позднее, владея в общих чертах целым, можно переходить к медленному, т. е. пристальному, детальному изучению партитуры по отдельным эпизодам и сценическим кускам.
Режиссеры чаще всего обладают хорошей зрительной памятью, благодаря чему при известной тренировке нарабатывается специфическая для профессии техника— умение, внимательно перелистывая партитуру, составлять себе первичное, общее представление об опере. Представление, повторяю, действенное, а не чисто музыкальное. Это значит, к примеру, что во внезапной смене ключевых знаков режиссер усмотрит не только красочную модуляцию в иную тональность, но и нечто новое, что произошло в действии. Пусть это новое пока видится ему неясно, важно, что оно произошло. Не прозвучало, а произошло. То же имеет место и по отношению к инструментовке: сознание режиссера прежде всего улавливает и отбирает «факты», способные подтолкнуть его действенное воображение: стремительный пассаж скрипок; остинато, порученное контрабасам; долгое тремоло литавр или внезапный «взвизг» флейты-пикколо; сфорцандо всей группы струнных и т.д. — все это может стать для режиссера зерном воображаемого действия, долженствующим превратиться в сценический плод. Остерегаться при этом следует лишь одного — воображаемой иллюстрации музыки действием. И надо помнить, что главная ценность первоначального знакомства с партитурой — не в количестве наблюденных «фактов», а в интуитивном охвате целого, в ощущении контуров будущего спектакля, намечаемых в самых общих чертах, еще без конкретизации сценических образов. Позднее, когда наши первые, непосредственные впечатления будут многократно проверены, организованы, многое в них может (и должно) измениться, но ощущение целого, скорее угаданного, чем осознанного режиссером при первом общении с партитурой, не исчезнет.
Умение одновременно читать ноты, мысленно слышать музыку и видеть воплощенное в ней действие — сложное искусство. Оно дается опытом и непрерывной тренировкой музыкально-действенного воображения. Наивно думать, что раз найденный сценический образ, адекватный музыке, есть наилучший и наивернейший вариант. Количество вариантов неисчерпаемо, т.к. рождаются они каждый раз заново, зависимо от индивидуальных свойств воображения данного режиссера, его опыта, вкуса, широты ассоциативного мышления, помогающей находить все новые загадки в партитуре.
Есть режиссеры, способные, подобно музыкантам, свободно читать партитуру глазами. Но это не имеет прямого отношения к их режиссерской деятельности, т.к. увлечение чисто музыкантскими профессиональными навыками порой наглухо закрывает клапан действенного театрального воображения. Не раз замечено, что режиссер, многократно проигрывающий на рояле клавир оперы, так «сживается» с музыкой, что, погруженный в нее, утрачивает активную связь с действием, которое она выражает. В то время как внимательное «комплексное» разглядывание партитуры помогает восприятию именно действенной сути музыки и активизирует работу фантазии режиссера.
Разумеется, у каждого режиссера вырабатывается свой индивидуальный способ знакомства с партитурой. Но обязательным для всех условием является одно: в оперной партитуре для режиссера заключено сценическое действие, а не просто музыка как таковая.
При известном навыке режиссерская читка партитуры не только труд, но и эстетическое наслаждение, вызванное творческим процессом. Уже при первом общении с ней в фантазии режиссера возникает образ спектакля. Пусть это только эскиз, предварительный проект, которому суждено претерпеть множество изменений в связи с углубленным изучением эпохи, стиля, авторских идей и намерений, с приятием или неприятием предложений других участников постановки — актеров, дирижера, художника. Но в нем уже заключено начало, «зерно» будущего спектакля. Ибо в постижении музыкальной драматургии участвует не только рацио (т.е. способность режиссера анализировать, сверять, делать выводы), но и интуиция, интуитивное восприятие воплощенных в музыке характеров, отношений, эмоций — всей той тончайше разработанной логики чувств, которую заключает в себе оперная партитура.
Да, оперный режиссер получает «в готовом виде» то, к чему актеры и режиссеры драматического театра лишь устремляют свои поиски (достигая цели в очень разной мере): открыв партитуру, он становится обладателем системы чувств, объединяющих или разъединяющих реальных, конкретных, активно действующих сценических персонажей. Не чудо ли это?
Источник


